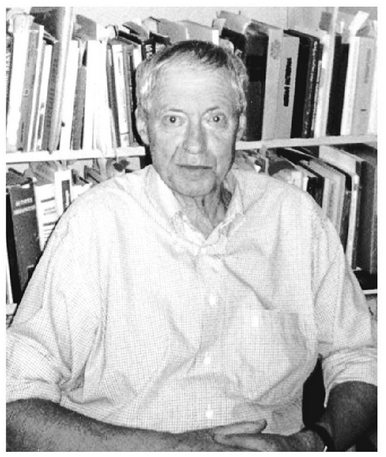
Фото A.A. Комарова
От редакции. Сегодня мы публикуем автобиографию и библиографию мэтра отечественной скандинавистики — доктора исторических наук, профессора Александра Сергеевича Кана. Он автор сотен статей и нескольких монографий по истории и историографии стран Северной Европы и советско(российско)-скандинавских отношений XX в. В 1987 г. ученый эмигрировал в Швецию. Работал в университетах Упсалы и Осло.
С архангельскими скандинавистами Александр Сергеевич тесно связан с 90-х гг. XX в. Приезжал в Поморский государственный университет на научные конференции, вел преподавательскую работу на историческом факультете, содействовал успешной защите докторантов и аспирантов ПТУ.
В декабре 2005 г. он отметил свой 80-летний юбилей.
Историкам философии давно понятно, что коль скоро известны труды того или иного философа, то подробности его (или ее) биографии не представляют особого интереса. Сказанное тем более применительно к историкам, чьи сочинения по большей части состоят из пересказа и разбора первоисточников. Главное в моей автобиографии — это прилагаемый перечень печатных трудов, их тематика, время и место их создания, жанр, язык, география и (не в последнюю очередь) политическая окраска. Нижеследующее введение призвано оживить и пояснить сухой и на первый взгляд безличный перечень, вместе с тем привлекая к нему внимание читающих.1
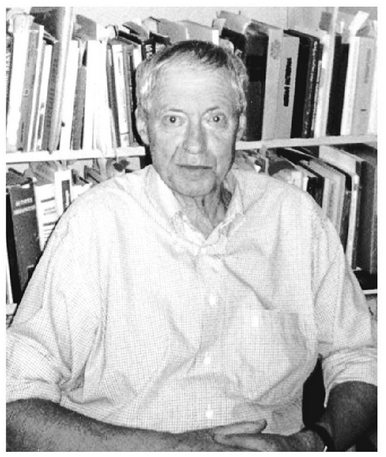
Фото A.A. Комарова
Я родился в 1925 г. и получил историческое образование в первые послевоенные годы на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Знание трех иностранных языков, приобретенное в детстве и закрепленное военной службой переводчика, освобождало время и силы для более обстоятельной подготовки курсовых сочинений по западному средневековью (у проф. А.И. Неусыхина) и по русской истории XIX в. (у проф. Н.М. Дружинина). Благодаря этому я приобрел опыт работы как с печатными, так и с рукописными источниками. [103]
Интерес к русской истории, разумеется, не нуждается в объяснении. Однако явные языковые способности располагали к специализации по всеобщей истории, влекли к менее изученным странам и регионам зарубежной Европы. Таковыми стали Швеция и Скандинавия. Не стану повторять сказанное мною ранее;2 по целому ряду причин история малых северных стран стала преподаваться и изучаться в СССР только после Второй мировой войны.
Научившись с помощью частных уроков читать научную литературу по-шведски, я попросил и получил свою первую «северную» тему у профессора О.Л. Вайнштейна в Ленинграде. Весной 1949 г. защитил дипломную работу «Швеция и начало Первой северной войны 1654–1655 гг.», получил диплом с отличием и был принят в заочную аспирантуру Института истории АН СССР. Первые два года я совмещал учебу со службой в иностранном вещании московского Радиокомитета. Там попал в скандинавскую редакцию, возглавляемую живой и артистичной Ниной Крымовой, работал бок о бок со скандинавскими и финскими коммунистами, жившими и трудившимися в Москве постоянно или временно. Уже на втором году аспирантуры я перешел от истории международных к истории социально-экономических отношений. К счастью, «мой» первоисточник — протоколы шведского госсовета — годился и в качестве источника по социальной истории такой страны, как Швеция, где крестьянские выборные издавна участвовали в работе сословного парламента. Мой московский руководитель, медиевист и аграрник проф. С.Д. Сказкин, не вмешиваясь в процесс исследования, редкими замечаниями предостерегал от методологических ошибок, в моем случае — от сближения шведских позднефеодальных отношений со вторым изданием крепостничества на континенте.
С осени 1953 г. моя карьера, как и жизнь страны, круто изменилась. Я получил почасовую работу на кафедре средних веков МГУ, стал вести семинар, из которого вышли мои первые ученики: д-р ист. наук О.В. Чернышева, ныне знакомая всем российским нордистам, и медиевист С.Д. Ковалевский, к несчастью, рано умерший. Летом 1954 г. академик А.М. Панкратова взяла меня на штатную работу в возглавлемый ею журнал «Вопросы истории», где я и проработал четыре года,3 ненадолго пережив, будучи беспартийным, даже смену редакции после безвременной смерти А.М. Панкратовой. В журнале я научился редактировать статьи по всеобщей истории и быстро писать на разные темы. Систематическую работу в области скандинавистики пришлось отложить до конца 50-х гг., когда проф. К.В. Татаринова неожиданно пригласила меня преподавать историю стран Северной Европы в МГИМО — Институт международных отношений. Чуть позже, в 1960 г., наладилась и моя научная карьера. Директор Института истории Академии наук В.М. Хвостов принял меня младшим научным сотрудником с условием согласия на работу в новорожденном секторе по истории внешней политики СССР и международных отношений. Так в 60-е гг. я стал международником и специалистом по новейшей истории: три первые мои книги — два вузовских учебника и докторская диссертация — были целиком или по большей части посвящены советскому периоду.4 Подготовка диссертации привела меня в Архив внешней политики СССР к несекретным документам. Даже доступная часть советско-шведской нотной переписки приоткрыла возможности и сюжеты для дальнейшей работы, в книгу и вовсе не попавшие (вопросы шведской опеки над советскими военнопленными, советско-шведская тайная подводная война летом 1942 г.). Я стал старшим научным сотрудником, а затем и доктором. Мое положение особенно укрепилось после разделения ранее общего Института истории АН СССР на специальные Институты [104] отечественной и всеобщей истории. Во втором, новорожденном учреждении в 1968–1974 гг. я возглавил по инициативе ученого секретаря З.С. Белоусовой и по ее совету — директора академика Е.М. Жукова первую в своем роде (в РСФСР) «Группу по новой и новейшей истории Скандинавских стран и Финляндии». Тогда же, с конца 1966 г., вступив в КПСС, я стал «выездным» и ежегодно вплоть до 1974 г. бывал в Скандинавии, а больше в Финляндии, будучи сопредседателем советско-финляндской комиссии историков (с финской стороны им был исследователь П. Ренвалль, ныне покойный). Знакомство с финскими историками обязывало к «перевооружению». Я стал брать частные уроки и научился читать по-фински со словарем, что видно по растущему числу рецензируемых мною книг на финском языке.
Скандинавская наша группа занималась главным образом изданием коллективных трудов, организацией всесоюзных конференций по нордистике, налаживанием и поддержанием международных связей, которые в сфере нордистики развились только после разделения Института истории (в основном в 70-х гг.). «Историю Швеции», подготовленную еще под руководством историка-русиста Г.А. Некрасова, мы завершили, не устранив противоречий между освещением эпохи викингов у И.П. Шаскольского и картиной высокого средневековья по А.Я. Гуревичу, а позднего — по A.A. Сванидзе. «История Норвегии»5 — уже целиком наше детище — была короче, стройнее и читалась лучше. Зато издание «Истории Финляндии» погубили непримиримые расхождения между редактором и автором глав по новейшей истории Виктором Холодковским, с одной стороны, и сотрудниками международного отдела ЦК партии, авторами других глав по той же эпохе — с другой.
В 70-е гг. я прекратил как исследование советско-скандинавских отношений в годы Второй мировой войны, так и начатые в связи с ленинским столетним юбилеем занятия скандинавскими компартиями в Коминтерне. Не знал я тогда, что вторая тема станет в эмиграции моим главным делом. Первую и последнюю научную командировку в Швецию 1971 г. посвятил разведке и сбору архивных материалов по социальной истории Швеции XVIII–XIX вв., иначе говоря, вернулся к тематике кандидатской диссертации. Тем временем в Ленинской библиотеке (ныне РГБ) и в ИНИБОН наладились, наконец, книгообмен и микрофильмирование шведских печатных источников по аграрной истории нового времени. Сосредоточиться снова на аграрной истории мне, впрочем, так и не пришлось. Временный поворот отразился в статьях, главная из коих увидела свет уже после эмиграции, но, как ни странно, в Сибири. Другим результатом командировки стали ценные личные знакомства в Швеции, переросшие в дружбу семьями: профессора Стен Карлссон (мой главный «лоббист»), Свен Ульрик Пальме, поныне здравствующие Андре и эстонец Лойт.
В очередной всесоюзной конференции нордистов в столице советской Эстонии (1973 г.) впервые участвовала целая группа шведов. Советско-шведские симпозиумы историков, почти явочным порядком начатые в Таллине, продолжались попеременно в Швеции и СССР до конца советской эпохи. Тут надо бы добрым словом вспомнить покойную Е.И. Агаянц, вдову знаменитого советского разведчика, ведавшую международными связями Института всеобщей истории.
Таким образом, десятилетия политического застоя оказались сравнительно безболезненными и даже плодотворными для советской нордистики, особенно московско-ленинградской, эстонско-латвийской и карельской. Хуже сложились мои личные дела: эмиграция старшего сына в 1974 г. прочно закрыла двери для моих новых командировок в Скандинавию. Особенно унизительна была отмена в самый последний момент поездки на юбилей Упсальского [105] университета в 1977 г., где мне присвоили степень почетного доктора наук. Так исподволь зрело решение об эмиграции.
Хлопоты об эмиграции были начаты в 1984 г. выходом из членов КПСС. В 1986 г. в 60 лет я был уволен с работы по сокращению штатов и стал пенсионером. Возможности публикаций постепенно сузились до рефератов, все чаще под именем учеников. Одновременно я начал писать книгу о советской исторической теории послесталинского периода, дабы показать борьбу прогрессивных сил с реакционными и частичное высвобождение исторической теории из пут диамата-истмата. Двойная жизнь и писание «в стол» мне претили.
В условиях начавшейся перестройки при поддержке шведских и норвежских политиков моя семья получила весной 1987 г. разрешение на выезд в Израиль, но осела в Швеции, где я сразу же получил работу по специальности и личную профессуру в Упсальском университете, при совместительстве (1/5 ставки) в университете Осло. Мне предоставили весьма благоприятные рабочие возможности (личный кабинет и компьютер, по советским меркам приличный заработок), я мало обременялся преподаванием, еще меньше — научным руководством — и был полностью избавлен от административных обязанностей. В отличие от Упсалы, где я выступал с редкими лекциями в основном по русской и советской истории, в Осло я восемь лет наездами читал факультативный курс по всеобщей истории исторической мысли, не без труда высвобождаясь от советских шор. Надо было спешить с исследовательской работой, пока старость не заявила о себе. Моя собственная перестройка облегчалась все еще сильным до 90-х гг. марксистским духом в скандинавских университетах. Две первых книги были «переводными» (т.е. написаны по-русски) и «переходными» — тесно связаны с моим советским прошлым. Обе вышли в Норвегии почти одновременно (1988 г.). Рукопись книги о развитии исторической теории между Сталиным и Горбачевым, вывезенная друзьями, уже ждала меня в Осло. Я получил за нее свой самый крупный в эмиграции книжный гонорар. Книга, однако, вопреки ожиданиям норвежских издателей, не была увлекательным антисоветским памфлетом типа «Архипелага ГУЛАГа» и потому разошлась плохо. Меньшую по объему книгу о советско-норвежских отношениях после Второй мировой войны издал Институт оборонных исследований в Осло, предоставивший мне собрание копий и вырезок из советской печати, принадлежавшее только что умершему норвежскому министру обороны Холсту.
Между тем, на Запад докатилась «горбачевская» волна симпатий и увлечений соратниками Ленина. Наступила пора международных встреч и конференций по Бухарину, Троцкому, Люксембург, да и по самому Ленину. Я решил вернуться к русско-скандинавским связям в области рабочего движения. Этому благоприятствовала не только полная свобода печатного слова в Скандинавии, но и доступ к архивным фондам Коминтерна в Москве и к бумагам (в западных архивах) некоторых скандинавских социал-демократов — друзей большевиков. Так увидела свет в 1991 г. небольшая, но дорогая моему сердцу книжка о Н.И. Бухарине и его скандинавских связях, первая из написанных мною по-шведски. Возвращение в бывший Центральный партийный архив на Большой Дмитровке означало и возобновление связей с российскими учениками, друзьями и коллегами не только в Москве, с тех пор ослабляемых только наступлением старости.
Первые годы и особенно месяцы в эмиграции нас с женой-политологом охотно печатали и опрашивали шведские и норвежские средства массовой информации. Особенно запомнилась общескандинавская конференция в Рейкьявике, совпавшая с путчем ГКЧП, где мне, единственному [106] «русскому», пришлось устно и в печати разъяснять смысл московских событий. К середине 90-х гг. отрыв от российской жизни стал мешать ее сколько-нибудь грамотному анализу «из прекрасного далека», что видно по иссяканию политических комментариев в нижеследующем перечне.
Было бы странно, если бы в эмиграции я утратил интерес к истории русско-шведских и шире — русско-скандинавских отношений. Находясь среди скандинавов, я непосредственно наблюдал и изучал по источникам их отношение к России и россиянам, образом русского в Скандинавии, происхождением и политической ролью русофобии, особенно в самой Швеции и в шведской (этнически) Финляндии. Так появились мои статьи в сборниках и рецензии на соответствующие книги. Тематика русско-шведских отношений в целом нашла больший спрос не в самой Швеции, а в ее прежнем восточном владении — Финляндии. Из моих лекционных курсов в университетах Хельсинки и Йоэнсуу выросло небольшое учебное пособие «12 столетий русско-шведских отношений» (1996 г.), в исправленном и расширенном виде изданное также по-русски в Москве. Книга отличалась, на мой взгляд, большей объективностью, чем ее шведские буржуазные предшественники и советские статьи на ту же тему. Однако половина тиража вновь осталась не проданной и была разослана всем шведским школам, гимназиям и народным библиотекам за счет Исторического отделения Упсальского университета.
С учетом краткости моего рабочего стажа мне дали и в Норвегии, и в Швеции дослужить до 70 лет в порядке исключения. Выйдя вторично на пенсию, теперь как шведский гражданин и отставной профессор, я еще несколько лет сохранял половину кабинета (так называемую «камеру смертников» в своем Упсальском институте). Образ жизни остался прежним, и все оставшиеся силы были брошены на мой главный труд о русско-скандинавских революционных связях в годы Первой мировой войны, русской революции и гражданской войны. На эту тему я стал публиковать статьи с 1990 г., причем на архивной базе. Архивные и газетные фонды, скандинавские и прочие, от Амстердама и Бонна до Хельсинки и Москвы, осваивались один за другим. Солидный материал и возраст требовали, однако, самоограничения, особенно после продуктивной командировки 2004 г. в Стэнфорд (Калифорния). Тамошние русские собрания — царской охранки и меньшевиков — вынудили ограничиться русско-шведскими связями как самыми важными в масштабе Скандинавии и в известном смысле всей Западной Европы. В сентябре 2005 г. книга «Домашние большевики. Шведская социал-демократия, большевики и меньшевики в Первую мировую войну и в революционные годы 1914–1920»6 вышла в свет на счет государственного шведского Научного совета в крупном стокгольмском издательстве и к началу февраля 2006 г. вызвала 14 рецензий и откликов, пока газетных и только шведских.
В моей последней во всех отношениях книге упор сделан не на мировом значении и влиянии русской революции — любимой теме советских историков и их скандинавских единомышленников, — а на той поддержке и помощи, какую русские социал-демократы разного толка получали от своих шведских доброжелателей и единомышленников. Самый факт этой многолетней помощи был известен и до меня, однако мои прямые предшественники англичанин Фьютрел и швед Бьеркегрен довели повествование лишь до Февральской революции и, соответственно, до первых месяцев Советской власти, а главное — мало интересовались шведскими помощниками российских революционеров. Своим научным достижением я считаю подробное обоснование тезиса об особой роли Швеции и шведского рабочего движения в подготовке, а затем и в поддержке русской революции извне, а также в [107] передаче на Запад денежных пособий Коминтерна молодым компартиям. Соответствующие высказывания «домашних большевиков» до меня считались хвастовством. В силу множества разных причин шведская рабочая партия, а после ее раскола (май 1917 г.) обе ее преемницы — левая и правая — знали русские партийные дела и были задействованы в русской революции больше всех прочих зарубежных, не российских социал-демократий.
На девятом десятке поздно строить новые большие планы. Как минимум, надеюсь продолжать рецензирование новой литературы — мое давнее увлечение, подобающее старикам больше, чем научной молодежи. Для работы такого рода «мои года — мое богатство».
1 К изданию готовится брошюра с полным перечнем научных трудов проф. Александра Сергеевича Кана. В журнальном же варианте прилагаем к статье только самый краткий библиографический список наиболее значимых его трудов. — Прим. отв. ред.
2 Кан A.C. Постсоветская историческая нордистика — первые итоги // Россия и Северная Европа: сб. науч. докл. Архангельск; М., 2001. С. 28–64.
3 Кан A.C. Анна Панкратова и «Вопросы истории» // Историк и время: 20–50-е гг. XX в.: А.М. Панкратова / отв. ред. Ю.С. Кукушкин и др. М., 2000. С. 85–100.
4 См.: Кан А.С. Новейшая история Швеции. М., 1964; Он же. Внешняя политика скандинавских стран в годы Второй мировой войны. М., 1967; Он же. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). М., 1971; 2-е изд. М., 1980.
5 История Норвегии / отв. ред. A.C. Кан. М., 1980.
6 {Сноска обозначена в тексте, но самой сноски нет. OCR.}
OCR: Halgar Fenrissson