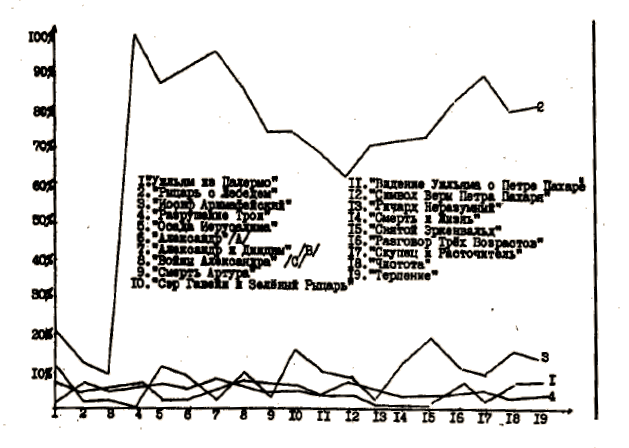
Bot trusteth wel, I am a sotheme man,
I cannot geste, rom, ram, ruf, by my letter…
Приведенное в эпиграфе двустишие — единственное дошедшее до нас свидетельство непосредственного соприкосновения процветавших в Англии второй половины XIV века поэтических направлений: упорядоченного романской силлабикой рифмованного стиха Чосера и имитируемой им в иронической ономатопее аллитерационной поэзии, опирающейся на многовековую национальную традицию. Это свидетельство, до сих пор остающееся без комментария, заслуживает внимания не только в силу своей уникальности — оно достаточно полно отражает суть явления, названного в заглавии предлагаемой статьи. Во-первых, стихи Чосера содержат косвенное указание на региональный (а не национальный!) характер аллитерационной поэзии, исключая юг страны и, следовательно, лондонский наддиалект; во-вторых, в них воспроизводится основной прием этой поэзии — аллитерация (вероятно, в ее ономатопоэтической, а не структурной функции), охватывающая три ударных слога rom, ram, raf; в-третьих, обозначается основной ассоциирующейся (по крайней мере, в восприятии Чосера) с аллитерационным стихом жанр — эпический (среднеанглийский глагол geste «сочинять эпические стихи» — девербатив от заимствованного из французского языка существительного geste «деяние, эпос») и, наконец, поэтическое отрицание Чосера до некоторой степени отражает его собственное отношение к интересующему нас поэтическому направлению, а, может быть, в какой-то мере и определяет его судьбу.
Между тем заключения, сделанные на основании взгляда «изнутри культуры», не во всем совпадают с мнением внешних наблюдателей, тем более что до последнего времени таковых было сравнительно немного. Ситуация изменилась в 70–80-ые годы, когда проблемы, связанные с позднесредневековой английской поэзией до некоторой степени оттеснили изучение англо-саксонских поэтических памятников. Наиболее популярным был и остается вопрос о «тайне аллитерационного возрождения», т.е. о причинах внезапного появления в XIV в. и генетических корнях той аллитерационной традиции, конец которой был положен нормандским завоеванием. В словосочетании «аллитерационное возрождение» судьба этой проблемы оказывается предрешенной: среднеанглийская аллитерационная поэзия возводится к англо-саксонской поэтической традиции, обреченной в течение трех веков на устное бытование, не подтверждаемое, впрочем, ни единым дошедшим до нас текстом. Важнейшие аргументы многочисленных сторонников этой гипотезы, восходящей к трудам Р. У. Чеймберса1 и У. П. Кера2 и абсолютно превалирующей в последних работах3, связаны с исследованием стиха и языка позднесреднеанглийских поэтических памятников, сохраняющих и англо-саксонскую поэтическую лексику, и акцентный безрифмованный стих с цезурой, и каноническую аллитерацию с преобладающей схемой звуковых повторов aa/ax, и, главное, формульность, обычно рассматриваемую4 в соответствии с теорией Пэрри-Лорда как реликт устной традиции.
Иная точка зрения представлена в работе Торлака Тэрвилль-Питера5, который, отвергая теорию трехвекового фольклорного бытования англо-саксонского стиха, заполняет лакуну в истории аллитерационной поэзии, ссылаясь на письменную традицию памятников XII–XIII веков («Вустерских фрагментов», «Бестиария», «Брута» Лайамона, «Пословиц Альфреда» и т.д.), а также текстов начала XIV века (лирической поэзии Харлейской рукописи 2253, и прозы Ричарда Роулле). Обе гипотезы имеют свои достоинства, которые будут затрагиваться в данной работе, чей предмет не исчерпывается, однако, поисками «недостающего звена». Нельзя не отметить тем не менее, что даже наличие исследуемых Т. Тэрвилль-Питером текстов парадоксальным образом ставит под сомнение полную приемлемость обеих точек зрения. С одной стороны, гипотетическое существование в XII–XIII веках устной традиции, сохраняющей каноническую, восходящую к англо-саксонской, аллитерационную поэзию, трудно примирить с тем обстоятельством, что все без исключения дошедшие до нас памятники этого времени сочинены крайне расшатанным стихом с нерегулярной аллитерацией и близким альтернирующему ритмом. С другой стороны, в эволюции раннесреднеанглийского стиха явственно прослеживаются тенденции к рифмованной ямбической силлабике, (приводящие в начале XIV веке к искуснейшей, ни в чем не уступающей поэзии Чосера, Харлейской лирике с ее прихотливой строфикой и орнаментальной по отношению к рифме, аллитерацией, инкрустирующей стих), но отнюдь не к постулируемому Т. Тэрвилль-Питером «аллитерационному континууму», осуществляющему возрождение интересующей нас традиции.
Вероятно, нужно признать, что принимая во внимание ограниченность известных нам фактов, проблема, сформулированная в чисто генетическом аспекте, оказывается принципиально неразрешимой. Попытаемся, насколько это возможно, представить материал позднесреднеанглийской поэзии аллитерационного возрождения (вне зависимости от того, как объясняются причины и пути ее появления) в историко-типологическом освещении, сосредоточив основное внимание на функциональном изучении жанровых и композиционных реализаций поэтической формы в сопоставлении с англо-саксонской традицией. Оправданность такого подхода заключена в самом существе исследуемого материала — аллитерационной поэзии, подразумевающей определенные отношения формы и содержания, их полную неотграничимость, абсолютную слитность друг с другом6. С общностью поэтической формы памятников аллитерационного возрождения в большой степени связаны, как будет показано ниже, и их остальные, в том числе и жанровые, особенности.
В отличие от формального, в жанровом своеобразии аллитерационной поэзии XIV века принято отказывать, чем, вероятно, объясняется отсутствие интереса к любому систематическому его изучению. Согласно распространенным представлениям, абсолютное большинство памятников по причине своего ярко выраженного переводного характера, естественным образом дублирует жанр оригинала7. Между тем, обращение к самим текстам показывает, что подобное заключение едва ли окажется тривиальным даже для незначительной их части.
Разнообразие стилей, тем, сюжетов, жанров, представленных среднеанглийской аллитерационной поэзией, неминуемо ставит под угрозу целостность изложения в предлагаемой статье, тем не менее определенные группы текстов достаточно близки, чтобы оправдать некоторые обобщения. Основной корпус позднесреднеанглийского аллитерационного возрождения допускает весьма условное деление на тексты, в той или иной степени соотносимые с жанром романа8, и произведения с преобладающим дидактическим аллегорическим началом. Считается, что первый вид текстов представляет собой популярные версии аристократических французских романов9 и, отставая от них Примерно на одно или два столетия, воспроизводит тот же круг тем: le matière d’Antiquité, le matière de Bretagne, le matière de France. В отличие от первых тематических кругов, достаточно популярных в Англии, последний представлен всего одним аллитерационным романом — «Уильямом из Палермо» (“William of Palerne”).
Это произведение, перевод французского стихотворного романа “Guillaume de Palerne”, обычно классифицируемого как roman d’aventure и датируемого концом XII века10, в силу ряда обстоятельств нетипично для поэзии аллитерационного возрождения. Прежде всего это единственный не вполне анонимный и довольно точно датируемый текст, принадлежащий аллитерационной традиции. Автор романа, называя свое имя — Уильям, просит молиться за графа Херефорда Хамфри де Боуна (унаследовавшего титул в 1350 г., а умершего в 1361 г.), по чьему заказу он создал свое произведение: Не let þis mater in þis maner speche / For hem þat knowe no Frenche, ne neuer vnderston (Он повелел изложить это произведение таким образом для тех, кто не знает французского и никогда не понимает его; 5532–5533). Эти строки, безусловно, влияющие на наше представление о характере аудитории, для которой был переведен этот роман, не дают, однако, оснований для экстраполяции11 на все остальные памятники аллитерационного возрождения. Можно предположить, что для определенной части населения восточной Англии (судя по диалектным данным, Глостершира12) именно «Уильям из Палермо» был избран для перевода благодаря удачному сочетанию поучительности, делающей его своеобразным учебником куртуазности, в котором даже пастух наставляет героя в учтивости (333–335), и развлекательности, связанной с преобладанием в оригинале сказочно-фантастических мотивов (в качестве верного друга героя действует волчица-оборотень; сами герои претерпевают бесчисленные метаморфозы, превращаясь то в медведей, то в оленей и т.д.). Следуя классическим моделям amour courtois, автор перевода точно воспроизводит все структурные повторения и переплетения мотивов изгнания возвращения, узнавания, объяснения, переодевания, пророческих снов (лишь однажды нетерпеливо соединяя два монолога героини в один: 433–570 и незначительно сокращая пространные описания нарядов, оружия и пиров) и прочие перипетии судьбы «героя, не подающего надежд», закономерно ведущие к цели — счастливому браку с прекрасной принцессой.
Нельзя не заметить, однако, что уже в этом, наиболее верном оригиналу, произведении в речах отдельных персонажей появляются интонации, диссонирующие с общим строем английской (не говоря уже о французской) поэмы. Обращение главного героя к своим соратникам (которому в оригинале соответствуют строки 6511–6536): Doth your dede today as doughti men schulle… (Делайте дело так, как доблестным воинам должно; 3807), представляя земную славу как награду за доблесть и призывая к исполнению героического долга (schulle), утверждает эпические идеалы почти языком «Беовульфа» (Swa sceal man don / þonne he æt guðe / gegan þenceð / longsumne lof… «так должен муж делать, когда он в битве думает о вечной славе»; 1534–1535). Разумеется, в «Уильяме из Палермо» проявления героической решительности, «пробужденной» аллитерационным стихом, исчерпываются эпизодическими примерами, не меняя общего представления о жанре поэмы.
Наличие элементов волшебной сказки, переплетение повествования о сверхъестественных приключениях с описанием проявлений естественных чувств, сближает «Уильяма из Палермо» с другим произведением аллитерационного возрождения — «Рыцарем с Лебедем» (“Cheuelere Assigne”), со значительно меньшим консерватизмом воспроизводящим французский оригинал, каковым в данном случае является “Naissance du Chevalier au Cygne” — начальная часть “Cycle de la Croisade” (восходящей к XII в, но циклизованной в XIII веке)13. Показательное различие в объеме перевода (370 стихов) и оригинала (1890 стихов) объясняется не только пропусками целых групп строк (обычно осуществляемых за счет описательных эпизодов: благодарения 90–4, возведения в рыцарское достоинство 1019–1127, вооружения 1276–1348, приготовлений к бою 1420–1467), но использованием значительно более радикальных методов сокращения. Пространный пролог (1–33), в котором автор оригинала просит внимания слушателей к его рассказу о Рыцаре с Лебедем, заменяется в английской версии пятью стихами, представляющими все повествование как пример Божественной защиты всего сущего, и находящими отклик в заключительном стихе (370), но никак не развитыми в качестве дидактической темы. Радикальной конденсации подвергается все действие, стремительно развивающееся от преступного сокрытия матерью короля рождения семи младенцев и ее попыток их погубить, чудесного спасения детей в лесу и воспитания их отшельником, превращения всех, кроме одного, в лебедей; к торжеству этого единственного, избежавшего метаморфоз, над злыми силами и избавлению им других, один из которых навсегда остается лебедем и становится верным спутником своему брату во всех его будущих рыцарских приключениях. Решительное устранение всякой мотивации (описаний реакции двора на появление героя: 786–915, его отчаяния при превращении близнецов в лебедей: 471–505, терзания слуги, посланного убить детей: 296–324), отбор наиболее характерных деталей (219–230, 275–282) и иногда эффектная перегруппировка эпизодов (314–332), компрессия диалога (151–199) в сжатую наррацию (49–56) — все эти редакторские ухищрения английского автора, носящие скорее технический, чем творческий характер, приводят тем не менее к достаточно определенному результату: сверхъестественное оказывается явным образом превалирующим, сказка высвобождается из своего литературно-условного романического контекста. Не пытаясь ответить на вопрос о том, является ли эта трансформация, не вполне посторонняя жанровой природе произведения, случайным следствием редакторской конденсации повествования или, напротив, осознанным авторским приемом, можно предположить, что свидетельствует она о стремлении автора избавиться от амплуа переводчика и утвердить себя в качестве рассказчика.
Свободная трактовка источника, а также акцент на провиденциально-чудесном допускает возможность аналогий с еще одной адаптацией французского романа — «Иосифом Аримафейским» (“Joseph of Arimathie”). Тенденция к относительной независимости английской версии от французского оригинала, в качестве которого выступает на сей раз соответствующая часть «Вульгаты»14, определяется не только превращением прозаического текста в стихотворный. Агиографические мотивы, характерные и для французского романа, усиливаются и становятся целью и смыслом повествования, в которое инкорпорируются отдельные романические элементы (едва ли не исчерпывающиеся, впрочем, единственным описанием битвы). Дошедший до нас текст поэмы, в котором отсутствует первая часть (около ста строк) и с нею рассказ о пленении и пребывании Иосифа в темнице (а может быть, и упоминание его в качестве протоевангелиста Британии) открывается его освобождением (точнее, его утверждением, что прошедшие 42 года показались ему не более, чем тремя ночами). Повинуясь Гласу с Небес, Иосиф покидает Иерусалим и отправляется в неведомые страны, где обращает сарацинского царя Эвелака, чьи неизменно почтительные вопросы как нельзя лучше соответствуют дидактической цели автора — подробному изложению учения о Троице и Деве. Марии и странным образом напоминают “Colloqium” Эльфрика. Истина открывается Эвелаку в видении о трех равновеликих деревьях и о младенце. Другое видение — о Кресте посылается сыну Иосифа Иосафу, после чего Христос посвящает его в епископы.
Третья часть, связанная с испытанием веры новообращенного Эвелака, подвергающегося нападению вавилонского царя Толомера, казалось бы дает возможность ввести в поэму собственно рыцарские мотивы, которой автор тем не менее пренебрегает: Эвелак побеждает в сражении (описанном с нехарактерной для аллитерационных поэм экономией собственно батальных деталей), благодаря знаку креста на щите, молитве, а главное, помощи Серафима, убивающего Толомера. Исход боя — единственного собственно романического эпизода в поэме, решается Божественной Помощью, даруемой тем, кто имеет веру. После обращения всех язычников, Иосиф, исполнив свою миссию, уезжает.
Даже по необходимости краткое изложение содержания поэмы удостоверяет, что принятое причисление15 ее к романам может объясняться только преувеличением роли французского источника в определении жанра английской поэмы. Вероятно, именно осмыслению в качестве духовной поэзии «Иосиф Аримафейский» в единственном дошедшем до нас варианте обязан своим включением в Вернонскую рукопись наряду с текстом А аллитерационного «Видения Уильяма о Петре Пахаре», рифмованными «Рассказом о Сусанне» и «Поэмой о Страстях Христовых», прозаическими «Разговором о любви к Богу» и «Жизнью Адама и Евы». Интересно, что рассматриваемая нами поэма записана в Вернонской рукописи как проза (с построчной пунктуацией) и, хотя это обстоятельство вне сомнения продиктовано стремлением к максимальной экономии весьма ограниченного рукописного пространства, некоторые основания для такой записи дает и сам текст этого произведения.
«Иосиф Аримафейский», равно как и две уже упоминавшиеся поэмы, «Уильям из Палермо» и «Рыцарь с Лебедем» отличаются от остальных памятников аллитерационного возрождения целым рядом важнейших формальных и языковых особенностей. Во-первых, все три текста имеют весьма ограниченный доступ к тому богатейшему словарному запасу и специфически поэтической лексике, которой насыщены аллитерационные поэмы (как англо-саксонские, так и среднеанглийские), в частности в этих произведениях практически отсутствуют необходимые для аллитерационной техники синомимические ряды, так же как и характерные синтаксические обороты и стилистические конструкции, в том числе и вариация. Во-вторых, эти три поэмы объединяет крайне расшатанный стих с нерегулярной аллитерацией (лишь в 9% строк «Иосифа Аримафейского» соблюдено каноническое ее распределение aa/ax, в то время как 16% строк не имеют аллитерации вовсе), чересполосицей сверхкратких (двухударных) и сверхдолгих (пятиударных) строк и не поддающимися идентификации метрическими моделями (решительно не укладывающимися в пять типов Сиверса). Нимало не преувеличенными поэтому кажутся, несмотря на всю свою конвенциональность, те извинения, которые автор «Уильяма из Палермо» приносит своим слушателям за недостаток мастерства (5521–5526).
Создается впечатление, что мы имеем дело с произведениями, дающими представления о «черновых» вариантах среднеанглийской аллитерационной поэзии, которым было не суждено подвергнуться процессу окончательного «редактирования». Они как бы предвосхищают аллитерационное возрождение, представляя характерные черты этой традиции в эмбриональном виде, и одним своим существованием опровергают впечатление о возникновении аллитерационной поэзии ex nihilo, побуждающее искать ее истоки в памятниках XII века или в англо-саксонской поэзии. О той же экспериментальности говорит и их бо́льшая, по сравнению с классическими памятниками, зависимость от источников, не всегда простирающаяся, впрочем, на жанровую имитацию. Можно предположить, что эти поэмы свидетельствуют о существовании более ранней (конечно, не хронологически, но типологически) стадии развития среднеанглийской аллитерационной традиции, своеобразной «предыстории» аллитерационного возрождения, для которой характерно как формальное несовершенство, так и интерес к наиболее примитивным формам сознательного художественного вымысла — явному неправдоподобию, сверхъестественности.
Близкие параллели к данному этапу развития аллитерационной поэзии в Англии обнаруживаются в исландской литературе. В Исландии в XIV веке наиболее популярным жанром были римы — повествовательная поэзия, подразумевающая фиксированность текста (профессионал читал риму с рукописи) и, несомненно, авторская, в которой посредством сугубо традиционной — скальдической формы (ферскейтт) пересказывались сюжеты сказочно-романических саг с гиперболическими описаниями фантастических сражений. И в римах, и в современной им английской аллитерационной поэзии, таким образом, происходит освоение художественной правды (в противопоставлении исторической) и распространение осознанного авторства на повествовательную поэзию16.
Не ставя перед собой цели последовательно проследить ни жанровую, ни формальную эволюцию среднеанглийской аллитерационной традиции, попытаемся по мере возможности лишь наметить некоторые ее Пути. В качестве стадиально более поздней, и в формальном отношении и в плане трактовки сюжета, вероятно, могла бы быть представлена группа поэм, связанная с le matière d’Antiquité. Таковы прежде всего поэмы, имеющие многочисленные текстуальные совпадения,— «Взятие Трои» и «Осада Иерусалима»17, а кроме того английская «александреида» (три поэмы об Александре Македонском: «Александр», «Александр и Диндим», «Войны Александра»).
Доминанта «троянской темы» (без упоминания которой обходится редкое произведение аллитерационной традиции), с разной степенью подробности трактуемой в прологах по крайней мере шести аллитерационных сочинений («Смерть Артура», «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», «Разрушение Трои», «Скупец и Расточитель», «Разговор Трех Возрастов», «Святой Эркенвальд»), и составляющей предмет самого пространного из известных нам аллитерационных произведений («Разрушения Трои» — 14000 стихов) едва ли случайна. Можно предположить, что неизменный интерес аллитерационной поэзии к изложению события «от Энея до Брута», эпонимического основателя Британии, обусловлен ее желанием преемственности, укорененности в традиции, заявленным уже самой ее поэтической формой. В образе Трои типизировано то легендарное героическое прошлое, в максимальной достоверности в воссоздании которого автор английской поэмы видит свою задачу.
Вероятно, именно тяготением к исторической правде (а не только неприятием «ахейских симпатий», хотя строка 10312 и содержит упреки Гомеру в излишней любви к Ахиллу), объясняется и отказ от Гомера в качестве источника, мотивированный в прологе к «Разрушению Трои» недовольством теми «пустяками», которые написаны у Гомера о богах, сражающихся рядом с людьми (степень мифологизации вполне допустимая и даже усиленная в первой группе рассмотренных поэм). Аллитерационная поэзия служит не для развлечения, но для воссоздания истины (38–40). Поэтому правдивость рассказа о Троянской войне Гвидо да Колумна, основанного на трудах историков Дареса и Диктиса, побуждает автора английской поэмы (о чем он упоминает далее в прологе) отдать предпочтение именно ему. Однако в отличие от своих многочисленных французских предшественников, возглавляемых Бенуа де Сент-Мором и опирающихся на тог же латинский источник, английский автор избирает не те пути, которые могли бы привести его к созданию романа. Любовные эпизоды им последовательно опускаются (история о Медее и Язоне лишь дает автору повод осыпать последнего горчайшими упреками, а любое упоминание Елены не обходится без весьма нелестных обобщений), всяческая куртуазность, авантюрность, индивидуализация, минимальный интерес к «жизни сердца» решительно отсутствуют.
Напротив, героические идеалы с настойчивостью утверждаются даже в не вполне располагающих к этому ситуациях. Например, отнюдь не к боевым соратникам, но к Медее, обращено воззвание Язона с его трагическим мироощущением и героической патетикой, где он говорит о том, что должен (schulle) любой ценой исполнить предначертанное судьбой («…каждый муж мудрый… должен скорее жизни лишиться чем недостойно жить»; 591, 593–594). Употребленные в поэме формулы героического поведения были бы вполне уместны и в контексте «Битвы при Мэлдоне» (312–313) и в «Беовульфе» (2890–2891): «Смерть лучше для каждого воина, чем недостойная жизнь». Дух героического эпоса возрождается вместе с аллитерационным стихом.
Не приближает «Разрушение Трои» к роману и эпическая широта охвата событий: от путешествия аргонавтов до странствий и кончины Улисса, дающих поэту возможность продемонстрировать свой редкий дар в трактовке своеобразного топоса аллитерационной поэзии (как англо-саксонской, так и среднеанглийской) — морских бурь (ср. например, описание трехдневного шторма, заставшего возвращавшегося от ахейцев Антенора; 1983–1996, или бури, настигающей преследующих троянцев Кастора и Поллукса; 3118–3201). Грандиозные, поистине эпические, описания битв (одно из которых занимает около 300 стихов: 5672–6014), воссоздание героической этики: многократные и многословные прославления воинской доблести, идеализированные фигуры персонажей — классических образцов героических характеров (аффектированно-неистовым оказывается даже Парис), с несомненностью свидетельствуют о стремлении автора «Разрушения Трои» к созданию героической эпопеи.
Полного торжества эпическая героика достигает в аллитерационных поэмах об Александре, чья жанровая природа в значительной мере предопределяется самим образом героя. Так же как и «Разрушение Трои», эти поэмы принято относить или к романам18, или с большим основанием к хроникам, в соответствии с предполагаемой зависимостью их жанра от жанра источников, в данном случае множественных: в первой поэме (A) об Александре (“Alisaunder”) для стихов 1–451, 901–953, 1202–1247 использована, вероятно, латинская хроника Павла (Эрозия «Семь книг истории против язычников» (“Historiarum Libri VII adversus Paganos”); стихи 452–900, 954–1201 восходят к «Истории войн Александра Великого царя Македонии» (“Historia Alexandri magni regis Macedonie de Preliis”); последний источник целиком актуален и для остальных поэм (B и C): «Александр и Диндим» (“Alexander and Dindimus”) и «Войны Александра» (“The Wars of Alexander”).
Большая часть первой поэмы (A) посвящена описаниям событий непосредственно предшествующих или связанных с рождением Александра, что казалось бы должно, если не подтолкнуть автора в сторону «романа воспитания», по меньшей мере, побудить его уделить минимальное внимание линии Филипп-Олимпия. Ни того, ни другого однако не происходит, если не считать единственного описания Олимпии, сведенного к стереотипному набору деталей и изобилующего идеализирующими абстрактными эпитетами (196–199). До тех пор, пока младенческий возраст героя препятствует появлению его на авансцене, потребность автора в воссоздании атмосферы эпической героики удовлетворяется за счет подробных описаний доблестных подвигов Филиппа: от его первых побед (1–451) до битвы при Фермопилах и взятия Фив (900–955) и начала осады Византии (1202–1249).
В отличие от поэмы A, дошедший до нас фрагмент, называемый обычно «Александр и Диндим», не содержит батальных сцен, но почти исчерпывается пятью посланиями, которыми обмениваются в долине Ганга Александр (только что одержавший победу над Пором Индийским) и индийский царь Диндим. Полемическая симметрия прений, в которых в соответствии с каноном, победа не суждена ни одной стороне, объединяет довольно аморфный материал, упрощение которого могло бы быть сведено к антитезе мирской славы (Александр) и истинной простоты, аскезы (Диндим). Можно вполне согласиться с теми исследователями19, которые считают этот фрагмент риторической интерполяцией, принадлежащей перу монастырского клирика.
Содержание этого фрагмента, равно как и события, изложенные в поэме A, входят на правах составных частей в третье произведение о том же герое — «Войны Александра» (не вполне точно называемом иногда поэмой C), которое успешно соперничает, хотя не достигает пространности «Разрушения Трои» — «Войны Александра» содержат 5788 стихов. Сцена, на которой разыгрываются события,— весь подлунный мир, время действия отделено «эпической дистанцией», абсолютно завершено и замкнуто, протагонисты — величайшие из великих: Филипп, Александр, Дарий. Впечатление грандиозности усиливается известной «калейдоскопичностью» смены событий, сконцентрированных вокруг суперперсонального героя, идеального воина в ореоле ирреальных совершенств. Европа сменяется Африкой, Александрия и Египет — Сирией, Дамаском, Тиром, Фивами, Согдианой, где ход повествования задерживается благодаря появлению Роксаны, и вновь устремляется к новым победам героя, на сей раз в Индии, с которой связан эпизод с Диндимом (единственное отступление от непосредственного хода повествования) и где суждено исполниться пророчеству о гибели Александра. На этом текст английской поэмы обрывается.
Вполне справедлива, вероятно, реконструкция ее окончания, предложенная У. Скитом20, и связанная с топической темой “ubi sunt”, возникающей в разговоре философов у гробницы Александра. Однако органичность ее для английской поэмы вызывает сомнение. В том виде в каком до нас дошло это произведение, оно на удивление лишено какой бы то ни было амбивалентности в трактовке образа поэтического героя, сообщаемой амальгамацией христианского и эпического начала. Никаких нравоучений о наказуемости тщеславия поэма не содержит, если, конечно, не пытаться разглядеть проявлений морализирующей дидактики в предупреждении поверженного Дария о том, что и Александра может постичь его судьба. Понимаемая в эпическом смысле судьба предопределяет жизненный путь Александра, дважды предсказанный (Нектанебом — Филиппу, и самому Александру в индийском храме) и реализуемый им в неукоснительном следовании своему героическому долгу. В соответствии с предсказанием само рождение героя сопровождается землетрясением, камнепадом, громами и молниями — все предвещает величие его судьбы. Неслыханные подвиги начинаются с младенчества, а двенадцатилетний возраст знаменуется укрощением Буцефала. Всякая экстраординарность, в том числе и сверхчеловеческая жестокость, с которой Александр обращается с побежденными фиванцами, не только не затушевывается, но натуралистически подчеркивается, ибо и в ней проявляется эпическая «чрезмерность» героя. Эпически трактуется и гибель Александра — не как наказание за преступление меры (ибо понятие «меры» вообще находится вне героической этики), не как кара за гордыню (ибо она доблесть эпического героя), но как исполнение эпической судьбы, ведущей к «вечной славе».
Концепции эпического героя идеально соответствует характерная материальность эпического фона. Мир, окружающий героев, воссоздан с максимальной предметной конкретностью: начиная от мельчайших деталей одежды и оружия героев до цвета глаз дракона, предваряющего битву Александра с Пором Индийским (особенно широко колористические эффекты используются в описании битв). Конечно, не всегда эти подробности вполне функциональны, однако, самая их декоративность не препятствует соотнесению их в сознании автора поэмы с характерной чертой эпоса, который он всеми силами стремится воссоздать, имитируя архаическую неспособность отвлечься от конкретности и обобщить действительность художественным вымыслом.
Ориентации художественного канона на, идеализацию и снятию индивидуального, поэмы об Александре и «Разрушение Трои» обязаны своим стилем и стихом, которым принадлежит особая роль в возрождении эпической традиции. Широчайшее использование эпической вариации, распространенность идеализирующих постоянных эпитетов (Philip the free «Филипп свободный»), употребление формул (в отдельных случаях алогичных on his merie slepe A.A. 821 «в своем веселом сне») и бесконечное их варьирование в угоду аллитерации, нанизывание однородных членов (особенно форм суперлатива и компаратива) — все элементы стиля подчинены единой установке поэтической системы на эпическую идеализацию и канонизацию. Никаких отклонений от канона не допускает и стих: на всем колоссальном пространстве этих самых длинных в аллитерационной традиции поэм с максимальной настойчивостью проводится схема aa/ax. Все служит единой цели — возрождению эпической традиции и осуществляется она средствами предельно для этой цели пригодными.
Знаменательным в связи с этим становится и нарочитое сокрытие имени автора поэмы, в колофоне которой содержится не исполненное им обещание назвать “the nome of the knight þat causet it to be made, and the nome of hym that translatid it out of latyn into englysshe” (имя того рыцаря, который повелел это сделать, и имя того, кто перевел это с латыни на английский), имитирующее принципиальную анонимность эпоса.
В многочисленных заверениях в достоверности, типичных для «эпических» поэм аллитерационного возрождения, возможно, начинает проявляться осознание их авторами утраты важной культурной ценности, характерной для всего эпического творчества,— архаического единства правды художественной и исторической21. Не исключено, что стремление к максимальной историчности, отказ от любых элементов мифологизации в «эпических» аллитерационных поэмах, с которым, вероятно, связано предпочтение именно хроникальных источников, объясняется сознательным отказом от дифференцированности исторической и художественной функции, т.е. тем, что можно условно назвать «вторичным функциональным синкретизмом».
Сравнение этих произведений с первым кругом рассмотренных нами текстов позволяет сделать вывод о том, что рецепция жанра романа в аллитерационной поэзии пока оказывается бесперспективной для развития этой традиции, освоившей нормы жанра лишь для того, чтобы немедленно от него отказаться. Таким образом, с самого начала эволюция жанров аллитерационной поэзии в Англии оказывается обратной постулируемой для литературы, которая послужила, как всегда подчеркивают, для нее образцом,— французской, что выражается не только в обратном следовании тематических кругов, но главное в самом направлении развития: от романа — к возрождению эпоса. Можно предположить, что в воссоздании этого исконного для аллитерационной поэзии жанра, авторы среднеанглийских поэм обращаются к сюжетам «античного цикла» (составляющего лишь предварительную фазу французского куртуазного романа) именно по причине его близости к эпической (не национальной, но античной) традиции22. Следовательно, на данной стадии эволюции аллитерационной поэзией избирается материал, наиболее предрасположенный к тому, чтобы быть подвергнутым процессу «вторичной архаизации» стиха, языка, стиля, который оказывается доступным наблюдению на примере этой группы памятников.
Сходные жанровые трансформации имеют место в литературе Скандинавии. Рыцарские романы начинают переводиться в XIII веке в Норвегии при дворе короля Хакона Хаконарсона (1217–1263), известного своими усилиями интегрировать страну в культурную жизнь Западной Европы. Проникая в Исландию, роман подвергается ассимиляции с доминирующей на севере Скандинавии литературной традицией саг. На формальном уровне жанровую трансформацию (о глубине которой свидетельствует то обстоятельство, что в Исландии в отличие от всех скандинавских стран «рыцарские саги» сочинялись) обусловливает превращение стихотворного текста романа в прозаическую сагу. Несмотря на то, что в исландских рыцарских сагах соответствующие французские романы легко узнаваемы по названиям («Сага о Тристраме и Исёнд», «Сага о Флоресе и Бланкифлур», «Сага о Парсевале»), в них с трудом улавливается даже самая приблизительная сюжетная романтическая схема. Отвергнутыми оказываются все главные черты европейского романа: изображение внутреннего мира отдельного человека уступает место подробному описанию событий, преимущественно, подвигов и битв; романические переживания упоминаются лишь как средство мотивации главных конфликтов; любовные коллизии заменяются поисками подходящей невесты, неизменно приводящими к выгодному браку; исчезают эмоциональные интроспективные монологи, прямая речь сокращается до характерных «саговых» реплик. Утрачивая рыцарско-авантюрную семиотику французского романа, исландские «рыцарские саги» не приобретают и индивидуальной семиотической структуры «родовых саг» («саг об исландцах»). Вместо этого они как бы обнажают те архаичные и универсальные автохтонные образцы, которые были традиционно связаны с фольклорными и мифологическими темами или героями: добывание невесты (Тристрам), спасение королевства (Парсеваль) и т. д., и к которым, в конечном счете восходят глубинные структуры самих рыцарских романов.
Сказанное подтверждает вывод о том, что в Исландии, как и в Англии, доминирующие литературные традиции — эпическая и саговая, ассимилируют чуждые, привнесенные извне, жанры, и в частности, жанр романа.
* * *
В отличие от поэм об Александре и Трое, эпическая природа одного из двух произведений «бретонского круга», составивших славу аллитерационного возрождения, не нуждается в экспликациях, ибо давно стала общим местом даже в энциклопедиях и компендиумах по истории литературы23. «Смерть Артура» (“Morte Arture”) принималась в критических исследованиях прошлых лет, вероятно, вслед за П. Браншидом)24 за типичный образец позднего эпоса с романическими авантюрными интерполяциями. В 60-ые годы эта точка зрения обогатилась трактовкой У. Мэтьюса25, рассматривавшего «Смерть Артура» как средневековую трагедию Фортуны, реставрированную по модели романов об Александре. К настоящему времени при безусловном господстве «героико-эпического» взгляда, «Смерть Артура» прошла через стадии последовательного представления ее в качестве: романа, анти-романа, chanson de geste, трагедии, exemplum, хроники, Fürstenspiegel. Кроме того, немалые усилия были затрачены на особенно популярные в последнее время поиски в поэме roman à clef и нередко весьма остроумные попытки исторической идентификации ее персонажей26.
Ни одна из упомянутых жанровых атрибуция не оставляет желать лучших доказательств или больших авторитетов, чем те, что ее поддерживают, однако любой из них равно трудно отдать предпочтение, отвергнув другие. Исключение составляет, быть может, жанр романа, неприемлемость которого для аллитерационной поэмы на первый взгляд становится несомненной благодаря сопоставлению ее с одноименным строфическим произведением с его куртуазно-амурной доминантой (особенно примечательно несоответствие начальных эпизодов двух поэм: альковной сцене между Артуром и Гвиневерой в рифмованной «Смерти Артура» соответствует батальное полотно поэмы аллитерационной). Тем не менее, то обстоятельство, что все в рифмованном произведении служит безусловному утверждению жанра романа, не опровергает актуальности того же жанра, но на прямо противоположных правах, для аллитерационной поэмы.
К эпизодам, подобным начальной сцене рифмованной «Смерти Артура», автор аллитерационной поэмы, как и авторы других произведений, принадлежащих этой традиции, не проявляет интереса, что выражается, в частности, в значительном редуцировании (по сравнению с одноименным рифмованном романом) линии Гвиневеры. Подобно многим другим персонажам идеального артуровского этноса (Ланселоту, освобожденному от обоих своих, как плутовского, так и любовного, амплуа и превратившегося в младшего воина артуровского comitatus; Гавейна, ставшего ближайшим сподвижником, alter ego Артура, которому, в отличие от roi fainéant французской “Mort Artu” или прозаической Вульгаты, возвращены и его молодость и, если не моральная, то, по крайней мере, героическая безупречность), Гвиневера по степени индивидуализации образа далека от французской и англо-нормандской «артурианы» и вновь возвращается на стадию хроники Гальфрида Монмутского. Как и у Гальфрида, в поэме с нею связаны лишь два кратких, но примечательных эпизода: прощание с Артуром, сопровождаемое рыданиями, стонами и обмороком, и принятие пострига, отмеченное теми же изъявлениями чувств, в ответ на предупреждение Мордреда о возможной мести Артура. Эта предельная аффектация в проявлениях эмоций вне сомнения почерпнута из французской традиции куртуазного романа, однако, в контексте английской поэмы с ее лейтмотивом предательства она выглядит если не абсурдной, то во всяком случае не вполне уместной. Аналогичным образом и другие стереотипные эпизоды «артуровского канона» тривиализируются в контексте поэмы и тем доводятся ad absurdum. Едва ли случайно, что для этой процедуры оказывается избранным произведение, чьи герои и события доставлены литературной традицией прототипического романа, романа par excellence.
Авантюрная романическая структура непосредственно проецируется в «Смерти Артура» в двух «чисто романических» типовых сценах: битве Артура с великаном с Монт-Сен-Мишель и поединке Гавейна с Приамом. Не разделяя категоричности исследователей27, постулирующих гротескность и сатирическую направленность «Смерти Артура», отметим все же, что сама ортодоксальность воссоздания типовых сцен клишированными романическими мотивами: контрарные оппозиции: герой-чудовище; христианин: язычник; locus amoenus, рыцарский поединок, пиршество, прекрасная дама, взывающая о спасении, волшебное зелье и проч. искажает дух и смысл не только романической темы, но и самую суть этого жанра. Так, например, функциональность сверхформульного описания вооружения Артура (соперничающего по степени детализованности с чосеровским в «Сэре Топасе») сомнительна. Вспомним, что подобно Беовульфу, он не может применить свое оружие по назначению, ибо падает с горы в объятиях чудовища, смертельный удар которому наносит Бедивер. Клишированное изображение устрашающей внешности великана, данное по традиционной романической схеме «с головы до пят» в форме подробнейшего каталога, представляет его бесформенным конгломератом табуированных для упоминания частей двенадцати животных от вепря и медведя до акулы и барсука. В отвратительном пиршестве великана инвертируется описание пира при дворе самого Артура. Дама, ради спасения которой затеяна вся авантюра, вопреки романтической традиции не только не спасается, но самым чудовищным образом погибает. Беспредельная гиперболизация простирается и на описание поединка благородного язычника Приама и персонифицированного символа рыцарственных авантюр Гавейна, начинающегося со стереотипной формулы (wondryes for to seke «на поиски приключений»; 2514), конвенционально продолженного описанием сверкающих мечей и озаренных сиянием шлемов и заканчивающегося детальнейшим перечислением всех полученных ими ран, от которых Гавейн остается без единой капли крови, а внутренности Приама ярко блестят на солнце, после чего оба этикетно обмениваются именами и излечивают свои раны чудесной водой, набранной Приамом из четырех райских рек.
Указанные типовые сцены подвергаются трансформации и на уровне макроструктуры всей поэмы, так описание поединка Гавейна с Приамом помещается в контекст предельно натуралистического повествования о действительных боевых действиях (þe slaughter of þe pople «бойня людей»; 2675). По пристальности внимания, уделенному в «Смерти Артура» рассказу о военных действиях и насыщенности его конкретными бытовыми деталями, поэма приближается к традиции хроник, переход от которых в идиллический мир романа всегда сопровождается своеобразным «сигналом перекодирования» — описанием locus amoenus, предпосланного как двум упомянутым сценам поединков, так и видению о колесе Фортуны.
С бесчисленными вариациями этой превосходно исследованной в критической литературе стандартной модели, послужившей основанием для одной из наиболее популярных жанровых аттрибуций поэмы — «средневековой трагедии судьбы»28, в «Смерти Артура» контаминируется не менее популярный топос «Девяти Достойнейших». Результатом контаминации топосов оказывается то, что, воспользовавшись опоязовским термином, можно было бы назвать «остранением»: exempla bonorum трех язычников, трех иудеев и трех христиан, в ряду которых первым стоит Гектор Троянский, чья кровь течет в жилах Артура (Ectores blude; 4343) сдвигает в иную ассоциативную сферу всю традиционную мотивацию ubi sunt. Из этого не следует, разумеется, полное разрушение дидактической установки, но заметное ослабление столь акцентируемой в критической литературе29 трагической природы падения героя. Артур следует своему героическому пути вполне сознательно, избирая не покаяние, ведущее к вечному спасению (хотя его мегаломания и простирается на то, чтобы взять Иерусалим «и отомстить за Принявшего смерть на кресте», 3217), но вечную славу в ином мире — мире хроник и романов, которая суждена ему благодаря величию духа и вопреки всем заблуждениям и ошибкам: This sall in romance be redde with ryall knyghttes… And kepe goure conquestez in cronycle for euer (O том в романе прочтут царственные рыцари… и сохранят твои победы в хронике навечно; 3440–3445). В этом предсказании Философа, непосредственно соотносящем поэму с жанрами, наиболее для нее актуальными, но как бы взятыми в ней с разными знаками — романом и хроникой, Артур возникает в своем новом качестве — литературного персонажа. Отметим, что и здесь непосредственно проявляется композиционная амбивалентность поэмы. Поверхностной гистерологической структуре30 с ее обратной семантической симметрией основных типовых сцен (каждому эпизоду возвышения героя соответствует инвертированный эпизод его нисхождения) противоречит на более глубинном уровне организация повествования, движущегося по восходящей, устремленной в бесконечность. Эта глубинная структура раскрывается при помощи искусного нарративного приема-параллелизма функций Рассказчика и Философа. В прологе Рассказчик дает синопсис поэмы, но только до апогея славы героя, т.е. до поворотного пункта в изложении, каковым является видение колеса Фортуны. Смысл видения истолковывает Философ, продолжающий «дугу» вечного восхождения героя в мире литературы.
Примеры, подобные приведенным выше, можно было бы умножить, однако суммируя их на уровне нарративной макроструктуры текста, легко заметить, что внесение в единичный романический мотив любого искажения (от гиперболы до нарушения «романических» табу) ведет к деформации типовой сцены, результатом которой становится разрушение всей романической темы. Иначе говоря, любое включение в стереотипы высоких форм куртуазного романа чуждых ему тематических элементов, обнажает его условность и деформирует, отрицает самый жанр, сохраняя однако его ощущение, обусловленное постоянной соотнесенностью с данной литературной традицией.
Та же тривиализация контекстом или, вновь в терминах ОПОЯЗ’а, разрушение автоматизации посредством остранения, прослеживается и на формальном, прежде всего стилистическом и языковом уровне. Не раз отмеченная в литературе31 лексическая близость «Смерти Артура» к англо-саксонской традиции (широкое использование синонимики, поэтизмов, субстантивных эпитетов, абсолютивное употребление слабого прилагательного и т.д.) нуждается в кратком комментарии. Напомним, что для поэтического языка англосаксонского эпоса характерна системная организация лексики, а именно системность и отсутствует в «Смерти Артура». Для того, чтобы в этом убедиться, посмотрим, какова судьба хотя бы одной традиционной синонимической системы, например, системы с общим значением «битва». Из четырнадцати синонимов с этим значением, встречающихся в сравнительно небольшой англо-саксонской поэме «Битва при Мэлдоне»: beadu (-ræs), gecamp, fæhð, gefeoht, garræs, guð (-plega), here, hild, gemot, getoht, wig (-plega), в «Смерти Артура» остается всего лишь три англо-саксонских синонима: fygt, kempe, here; места остальных заняты французскими заимствованиями: batayl, stour, strif, werre. Даже пример этой синонимической группы ставит под сомнение гипотезу преемственности поэтической лексики.
Тем не менее необходимо упомянуть, что одна синонимическая система все-таки сохраняется и в «Смерти Артуpa» — это синонимы «мужа». Принято считать, что внутри этой синонимической системы сохраняется важнейшая черта архаичной эпической поэзии — метрические ранги (иерархические позиции, выделяемые на основании дистрибуции синонимов, вне зависимости от их предметно-логического значения в соответствии с четырьмя главноударными позициями в строке32), определяющие предпочтительность включения некоторых синонимов (burne, freke, gome) в аллитерацию. Однако эта точка зрения оказывается не вполне приемлемой не только в силу самоочевидного обстоятельства, обусловленного разрушением в среднеанглийском стихе акцентного рисунка долгой строки 3, 5-3-4-1, сводящим все гипотетические «ранги» к бинарной оппозиции специализированных — универсальных синонимов. Даже специализированные синонимы, чье употребление ограничено только аллитерирующими позициями, в «Смерти Артура» ситуативно обусловлены. Включение таких слов в аллитерацию связано со стилистическими оттенками, различного рода коннотациями, экспрессивными обертонами, сопутствующими слову в данном контексте. Так, например, завтракающий младенцами чудовище-великан с Монт-Сен-Мишель обозначается вполне нейтральными (всякий раз новыми и, разумеется, включенными в аллитерацию) синонимами: renke, schalke, segge bierne, lede, чью функцию можно было бы определить как «контрастивную характеризацию». Вне сомнения, подобная широта лексического выбора связана с необходимостью удовлетворения требований аллитерации. Однако только ли аллитерацией объясняется употребление слова saynte «святой» по отношению к великану или перифрастического оборота þis mayster mane þat this monte yemez (покровитель, который охраняет гору; 938) как его называет Артур, актуализируя ассоциативную связь паломничества — поединка?
Если великан обозначается всякий раз с помощью нового синонима, чья стилистическая отмеченность (но никак не метрические ранги) обусловливает его включение в аллитерацию, то применительно к Артуру, синонимы, чей возвышающий и идеализирующий характер не раз отмечался, варьируются значительно реже. В сцене поединка с великаном Артур обозначается всего двумя синонимами: prynce, kyng. Однако в контексте всей поэмы варьирование синонимов, при помощи которых называется главный герой, дает возможность ярко выявить индивидуальность обращения поэта со словом.
В первой половине поэмы (1000 строк) Артур называется the Conqueror (победитель; 14 раз); the sovereign (властитель; 3 раза); the kyng, Sir Arthure, the roy reall (король, Сэр Артур, царственный король). В последних 1000 строках (после видения о колесе Фортуны) он ни разу не называется ни conqueror, ни sovereign, обычно по имени Kyng Arthur (7 раз) или с помощью перифрастических оборотов: the comeliche kyng (прекрасный король; 1318); this wyesse kyng (мудрый король; 3562); the bolde kyng (отважный король; 3591, 3628, 3981, 4330); the gud kyng (благой король; 3949) и т.д. Всего восемнадцать синонимических оборотов, и ни один из эпитетов (кроме “bolde”, что весьма существенно) не повторяется33. Употребление всех синонимов обусловлено ситуационно и условно. Создается впечатление, что падение с колеса Фортуны разрушает индивидуальность Артура, его тождество самому себе. Примечательно, что в самом описании видения, Фортуна (в ипостаси Fortuna Prospera Belli) обращается к Артуру: kyng ryall (3373), но превратившись в Fortuna adversa, она упраздняет любые эпитеты, называя героя kyng; для Философа же, истолковывающего смысл видения, он становится просто mane (человек; 3395, 3354).
Приведенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что вполне конвенциональные для всего поэтического аллитерационного корпуса лексические единицы, помещаясь в «Смерти Артура» в индивидуальные контексты, начисто утрачивают свою стереотипность. Можно было бы сказать, что денотативное значение слов в поэме не абсолютно, но функционально по отношению к традиции: они одновременно строго конвенциональны и оригинальны, экспрессивны для каждого данного семантического уровня.
Та же комбинация кодифицированной нормы и широчайших возможностей вариации внутри нее проявляется на уровне формул. Лейтмотивом звучат в поэме формульные словосочетания as the cronicles telle (как рассказывается в хрониках) и as the rollez telle (как рассказывается в архивах), подчеркивающие ее следование традиции хроник (той же цели служат заверения рассказчика в правдивости: I sall tell yow a tale þat trewe es and nobyll «Я расскажу вам историю, правдивую и возвышенную»; 16). Напротив, далекая от хроникальной, ассоциативная сфера формулы as hym lykes («как ему нравится»; вариант what hym lykes, «что ему хочется»), встречающейся более 100 раз вместе с акцентирующим ее многократным абсолютивным употреблением возвратного местоимения (hymselven, myselven и т.д.) приобретает особую функциональность и содержательность в контексте поэмы с ее беспрестанно возникающей темой героической свободы воли. Отметим, что отдельные случаи использования этой формулы противоречат семантике непосредственного контекста (например, þat hym lykes сказано о мертвом Сэре Бэрелле; 1776), что подчиняет использование формул основному принципу организации всего текста поэмы — отрицанию утверждением, доведением до абсурда.
Конвенциональность не исключает, но, напротив, парадоксальным образом удостоверяет индивидуальность и возникновение новых семантических обертонов в употреблении формул: так в начале поэмы еще безупречный Артур бьется с великаном for rewthe of þе pople (из сострадания к людям), далее он сражается fore mendement… of hys pople (для улучшения… своих людей; 1236) и наконец, он вызывает лишь þe pyne of þe pople (стенания людей; 3043). В конце поэмы Артур обвиняется в том, что он turmentes þe pople (мучает людей; 3153), а также, что он riotes hymselven (бесчинствует; 3172). Напомним, что обе эти формулы в начале поэмы были применены к Луцию, с которым Артур сражался (turmentez þе pople, 1954, ryotte oure selfen, 1969), а одна из них встречалась в описании сна Артура о драконе и медведе (где о медведе было сказано tyraunt… þat tourmentez thy pople «тиран… который мучает своих людей»; 824). Однако словом “tyraunt” был обозначен великан с Монт-Сен-Мишель, который «чинит беззакония» (966), получая в дань fyftene rewmez (пятнадцать областей; 1005). Но точно такую же дань of fyftene rewmez (837) получает и сам Артур и его сподвижники. Подобным образом всякая отдельная формула в поэме умножается, варьируется и помещается в диаметрально противоположные контексты, приобретая при этом экспрессивность, противоречащую самой природе формульности как информативного возбудителя в произведениях «эстетики тождества»34. Употребление формул превращается в индивидуальный авторский прием. Стилистическая функция формул, рассмотренная на примере «Смерти Артура» исключает возможность аналогий с системной формульностью — важнейшим принципом организации устной эпической традиции, и никак не может использоваться в качестве доказательства устного бытования среднеанглийской аллитерационной поэзии.
Амбивалентность (конвенциональность и индивидуальность) языка и стиля, начавшись на уровне лексики (т.е. кратких строк) и захватывая употребление формул (уровень словосочетания — долгие строки), далее распространяется на большие нарративные единицы, включая темпоральные структуры (грамматика — уровень предложения) и пространственные (синтаксис — строение периода). В области грамматики наиболее характерно разграничение двух нарративных временных форм: претерита и аналога praesens historicum35. В контексте поэмы переход от одной временной формы к другой используется как средство выражения темпоральной перспективы — своеобразный индикатор противопоставления основного действия фоновому (ср. переключение сцен в стихах 625, 736, 756, 1223). При помощи двух временных форм в поэме как бы развертывается двойной сюжет: на авансцене — доблестные подвиги короля Артура и его рыцарей (претерит), и отклонения от основного нарративного фокуса (презенс): авторское отступление (619); перечень (738); батальные сцены (1110) и т.д. Разумеется, рано говорить о последовательном применении подобного средства темпоральной актуализации, но, безусловно, можно предположить его стилистическую функциональность.
В функциональности обычно принято отказывать основным синтаксическим средствам построения периода: вариации и параллелизму. В поэме эти разнонаправленные синтаксические приемы: вариация, направленная ретроспективно и минимально развивающая повествование, и параллелизм, направленный проспективно и продвигающий ход действия, часто совмещаются. В результате появляется то, что можно было бы обозначить как «структурный параллелизм с вариацией»: параллельное сопоставление никак эксплицитно не связанных, в том числе и синтаксически (превалирует асиндетический паратаксис), единиц, глобальное значение которых проявляется благодаря этому соположению. Приведем один из наиболее ярких и даже подвергнутых эстетической критике36 примеров. В самом начале поэмы после вступления основное изложение начинается со своеобразного «каталога»: Qwen þat þe kynge Arthure by conqueste hade wonnyn… (Когда король Артур своими победами завоевал…). Далее на протяжении двадцати строк, сочетающих анафору с параллелизмом, следует перечень тридцати. стран, завоеванных Артуром, а затем снова возвращение к первоначальной мысли: Qwenn he þes dedes had don, he doubbyd hys knyghtes (Когда qh эти подвиги совершил, он посвятил своих людей в рыцари). Однако до главного предложения дело опять не доходит, так как вводится очередная, уже последняя, серия адвербиальных придаточных: Whene he þys rewmes hade redyn and rewlyde þe pople, / Then rystede þat ryall and helde þe rounde tabyll (Когда он эти королевства завоевал и стал править их людьми, тогда удалился на покой этот король и основал Круглый Стол). Таким образом первое временное придаточное оказывается отделенным от главного двадцатью шестью строками, состоящими из аналогичных парантез: двусоставные структуры = субъект + личная форма глагола (в 32, 33, 35, 38, 40, 43, 46). Некоторые исследователи рассматривают такие примеры как доказательство устного сочинения поэмы, «при котором начало предложений может забываться или игнорироваться»37 и объясняют их художественной слабостью произведения; другие подчеркивают их пародийность38, считая, что они показывают тщетность артуровских побед, vana gloria. Однако, нельзя ли увидеть в подобных строках воспроизведение того «кумулятивного» метода построения периодов, которое составляло отличительную черту традиции, воскрешаемой самой поэтической формой, где именно период, а не предложение являлся основной синтаксической единицей? Иными словами; не служит ли и синтаксическое строение периода стилистическим целям, превращаясь тем самым в авторский прием? Интересно, что использована эта синтаксическая «кумулятивность» в тексте типологически близком древнегерманской туле, воплощающей синкретизм эстетического и информативного, включение которой в иные жанровые контексты было характерно и для исконной аллитерационной традиции.
Естественно, что употребление подобных перечней в «Смерти Артура», как и в древнегерманской поэзии, сугубо маркировано, типичный же синтаксический период состоит из краткого утверждения, укладывающегося в долгую строку (или полустишие), и распространяемой на следующие долгие строки вариации; This was Sir Gawain the gude, þe gladdeste of othire, / And the graciouseste gome that vndire God lyffede, / Mane hardyesste of hande, happyeste in armes, / And þe hendeste in hawle vndire heuen riche (Это был Сэр Гавейн добрый, счастливейший из всех / Муж благороднейший из всех под Богом живущих / Человек крепчайший силой, удачливейший в бою / И достойнейший всех благ в царстве под небесами; 3876–3879). В отличие от англо-саксонской поэзии, где вариация была неизбежным следствием неразвитости синтаксических связей, в «Смерти Артура», текст которой представляет неопровержимые доказательства достаточного синтаксического богатства, вариация представляется вполне функциональным приемом. В приведенном примере самый плеонастический ее характер служит все той же беспредельно гиперболизированной идеализации, описываемого с ее помощью персонажа — Гавейна, причем вновь, как и везде в поэме, дополнительные ассоциативные обертоны возникают благодаря соположению элементов эксплицитно не связанных — помещению вариации в контекст, которой с полным правом может быть назван элегическим. По общему тону, связанному с комбинацией мотивов «утешительной философии» с идеалами героического мира, элегический отрывок на смерть Гавейна может быть уподоблен англо-саксонским элегиям (в особенности элегической речи «последнего отпрыска великого рода» в «Беовульфе», 2247–2268).
Можно предположить однако существование и более глубоких оснований для аналогий. Подобно «Беовульфу», включающему все жанровое богатство завершаемой им англо-саксонской поэтической традиции39, «Смерть Артура» предстает как итог развития традиции аллитерационного возрождения, осуществляющий вместе с воссозданием (но и формализацией) всех характерных особенностей аллитерационной традиции и своеобразный жанровый синтез, преобразование в противоборстве, отрицая одни жанры (роман) и утверждая, соединяя в единую плоть поэмы пафос христианской дидактики, хроники, эпической и элегической героики.
В эстетическом восприятии современных читателей аллитерационную «Смерть Артура», как впрочем и все без исключения иные поэмы этой традиции, а, может быть, и всего позднего английского Средневековья, затмевает произведение, определение жанровой природы которого кажется решительно беспроблемным. Это «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» — классический образец рыцарского романа, на примере которого не раз исследовались фундаментальные черты этого жанра, выделенные в частности, Ю. Винавером40. Сам текст поэмы тоже не оставляет сомнений, утверждая, что история рассказывается as hit is breved in the best boke of romaunce (так как она изложена в лучшей книге романа; 2521). Закономерно поэтому, что основной интерес исследователей обычно сосредоточивается на определении ее источников и интерпретации основных сюжетных мотивов. Известно, что традиционные мотивы, использованные в романе: «игра в обезглавливание», «искушение», «обмен дарами», встречаются, но лишь порознь, в средневековой ирландской и французской литературе, поэтому поиски гипотетической “best boke of romaunce”, объединяющей эти мотивы и стало быть предположительно послужившей источником для «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря», продолжаются с переменным успехом и по сей день. Тем не менее, генетический анализ, равно как и интерпретация упомянутых сюжетных мотивов (которые трактовались и как реликты языческих ритуалов и вегетационных мифологем и инвокаций солярного божества41), а также проблема исторической и мифологической идентификации ее персонажей по необходимости останутся за рамками данной работы.
Попытаемся вместо этого обратиться к структуре самой поэмы и проследить способы ее тематической и формальной организации, релевантные для ее не подвергаемой сомнениям жанровой природы. В рукописи (Cotton Nero A x, о которой пойдет речь ниже) текст поэмы разделен на четыре части (fyttes), отмеченные орнаментированными инициалами и сохраняемые всеми издателями. Однако на более глубинном уровне структура текста предстает как весьма замысловатое переплетение традиционных романических мотивов, как бы вставленных один в другой.
Основное действие разворачивается в обрамлении двух сцен, связанных с «игрой в обезглавливание». За историческим зачином, где поминаются и «Ромулус в Риме» и «Брут, выведший британцев на высокий берег», следует описание новогоднего торжества при дворе короля Артура в Камелоте, которое нарушает появление Зеленого Рыцаря на Зеленом коне и с веткой падуба (знаком мира) в одной руке и топором — в другой, приехавшего убедиться в kydde cortaysye (знаменитой куртуазности; 263) артуровского двора и предложить рождественскую потеху. Самому доблестному из воинов дается право отрубить Зеленому Рыцарю голову его же собственным топором, но с условием, что через год этот воин по своему побуждению разыщет его и подставит свою голову под ответный удар. Сэр Гавейн принимает и исполняет условие, после чего Зеленый Рыцарь, представившись как the Knyght of the Grene Chapel (Рыцарь Зеленой Часовни; 154) уезжает, держа свою отрубленную голову в руке. Аналогичная, но соответственно инвертированная, сцена помещена в конец поэмы.
Внутри этой рамочной композиции располагаются три эпизода искушения Гавейна, чередующиеся с тремя сценами охоты, с вплетенным в них мотивом обмена дарами.. По прошествии года Гавейн отправляется на поиски Зеленой Часовни, но на пути останавливается в замке, чей радушный хозяин Сэр Бэртилак устраивает в его честь рождественские пиры. По утрам Сэр Бэртилак уезжает на охоту, условившись с Гавейном об обмене дарами, которые каждый из них получит во время отсутствия другого, а в спальню рыцаря является, намереваясь добиться его любви, хозяйка замка, которую он сам находит «прекраснее Венеры» (945). Параллельные сюжеты представляют как разворачивается действие вне замка — на охоте, описание которой удовлетворяет самым изысканным литературным вкусам, и в замке, где в первый день его хозяйка и Гавейн ведут долгие luf-talkyng (любовные разговоры), после чего она «заключает его в объятья, с любовью склоняется и рыцаря целует» (1305–1306). Гавейн же, исполняя уговор, возвращает поцелуй Сэру Бэртилаку в обмен на добытого им на охоте «осторожного (стыдливого) оленя». На второй день, вновь начинающийся с описания охоты, хозяйка замка становится настойчивей и, укоряя Гавейна за нежелание «возлюбить ближнего», подвергает сомнению “cortaysye” рыцаря, осмеливающегося печалить даму. И вновь техника куртуазного разговора соперничает с техникой описания охоты. Фокус повествования перемещается из леса в замок (охотники «гонят оленя в лесу, а наш прекрасный рыцарь лежит в постели»; 1468–1469) и обратно из замка в лес («Рыцарь с Леди беседует весь день, а лорд в лесу часто стреляет»; 1560–1561), где Сэр Бэртилак преследует «отважного (и свирепого) кабана», в то время как его жена пленяет гостя, уже очарованного и потому раздосадованного, но вновь получающего поцелуй, который он не скрывает от хозяина дома. Композиция еще более усложняется постоянным присутствием мотива «обезглавливания» в снах Гавейна (1750–1753), от которых его ежеутренне пробуждает Леди.
На третий день Сэр Бэртилак травит «хитрую лисицу», а чистота Гавейна подвергается самому серьезному испытанию (1757–1762). Наконец незаурядное хитроумие Леди вынуждает Сэра Гавейна принять от нее в подарок знак любви laf-lace (кружевной пояс), который, как она обещает, спасет ему жизнь в Зеленой Часовне. На охоте же в это время Сэр Бэртилак убивает лисицу: одновременность обоих действий подчеркнута употреблением маркированной в среднеанглийском формы перфекта: Не hatz forfaren this fox that he folwed long (Он убил лисицу, которую долго преследовал; 1895). Поразительная искусность, с которой организована и хронологическая и пространственная перспектива, и решена сложнейшая проблема нарративной одновременности действий, беспрецедентна для английской литературы этого времени42. Решающая роль в достижении эффекта одновременности принадлежит композиции — рамочной конструкции, благодаря которой две сцены не просто располагаются последовательно, но каждая сцена охоты оказывается вставленной в рамку двух сцен в замке и наоборот. Самой композицией предуказана актуализация ассоциативной связи двух понятий: «охота» и «любовь», не оставленной спустя два столетия незамеченной Шекспиром (129 сонет), и подсказанной самим языком — двусмысленностью среднеанглийского hert-huntyng связанной с колебаниями в орфографии (олень — hert, сердце — hert).
Эта поддерживаемая композицией нарративная метафора, распространяется и на следующую серию эпизодов, связанных с окончанием «игры в обезглавливание». На утро Гавейн отправляется в Зеленую Часовню, прикрепив подаренный ему зеленый пояс на свой щит, на внутренней стороне которого изображена Дева Мария, на внешней стороне — пятиугольник “pentangel” (символизирующий безупречность Гавейна в его пяти чувствах, в силе пяти пальцев, в вере в пять ран Христовых, в доблести, происходящей от пяти радостей Девы Марии, и в пяти добродетелях: fraunchyse «смелость», felawschyp «верность», clannes «чистота», cortaysye, pitè «сострадание»), для обозначения которого в поэме не раз используется выражение endeless knot «бесконечный узел». Нельзя не заметить, что происходит примечательная замена символов: знак вечного совершенства — «бесконечный узел», в котором герой безнадежно запутывается43, заменяется предметом вполне конечным и имеющим определенные и сугубо «земные» коннотации.
Итак, Гавейн едет через глухой лес, канонически символизирующий переход в мир иной, в часовню, рассказ о которой выдерживает аналогии с самыми мрачными изображениями преисподней, в сопровождении отговаривающего его от опасного подвига спутника (2097–2109), описывающего Зеленого Рыцаря как превосходящего всех людей на земле: and more he is than any mon upon myddelerde (и больше он всех людей на земле) почти словами «Беовульфа» о Гренделе: Naefne he wæs mara þonne anig man oðer (никогда никакой человек не был больше его; 1353). Вообще, чисто физическая или героическая природа испытания неоднократно подчеркивается в поэме. От Гавейна ожидается поведение полностью отвечающее канонам возрождаемой аллитерационной поэзией героической традиции. Его конфронтация с Зеленым Рыцарем не существенно отличается от оппозиции герой-чудовище в «Беовульфе» или Артур — великан с Монт-Сен-Мишель. В соответствии с канонами той же героической этики, Гавейн без колебаний отвергает предложение скрыться: I were a knyght kowarde, I myght not be excused (Я был бы трусливым рыцарем, мне не было бы прощения; 2131) — двусмысленное употребление формы пассивного инфинитива («мне не простят» и «я не прощу себе») как бы совмещает внешнюю и внутреннюю точку зрения, синтезируя две культуры «стыда» и «вины».
Сначала Гавейн слышит звук натачиваемого топора, затем появляется Зеленый Рыцарь, Гавейн склоняет голову и вместе с ним мы снизу44 смотрим на занесенный над ним и медленно опускающийся топор. Два первых удара не достигают цели, третий — слегка ранит его. Гавейн с облегчением вскакивает — он выдержал испытание, и предлагает Зеленому Рыцарю вступить в честный поединок, но вдруг узнает в нем радушного хозяина замка Сэра Бэртилака, который разъясняет ему истинный смысл испытания: первые два удара символизируют безупречность Гавейна во время первых двух свиданий с Леди, рана же получена им за то, что он принял ее подарок и скрыл его в третий день.
Все сюжетные мотивы наконец как будто слились воедино. «Игра в обезглавливание» действительно оказалась игрой, а подлинному испытанию Гавейн был подвергнут в замке Леди, которая тоже всего лишь играла роль, и не вполне вышел из него с честью. Гавейн пристыжен; негодует на себя и на «уловки дам» (the wyles of wymmen; 2415), подобно героям англо-саксонской поэзии соизмеряет свои горести с трагедиями общечеловеческой истории, вспоминая Адама, Самсона, Давида, которые тоже были «введены в заблуждение», дает обет никогда не расставаться с подаренным ему зеленым поясом (in synge of my surfeit «в знак моего позора»; 2433). Внезапно происходит мгновенная смена перспективы: мы вдруг видим Сэра Гавейна глазами Зеленого Рыцаря, а не наоборот как всегда в поэме: «Ему понравилось, как тот отважный, бесстрашный, храбро там стоял» (2334–2335). И этот взгляд, вне сомнения,— взгляд превосходства, «сверху вниз». Пространственная и временная перспектива совмещаются с моральной. Суд над Гавейном, вершимый сначала им самим, а затем Зеленым Рыцарем, продолжается в следующей сцене (в Камелоте), где Гавейн без утайки рассказывает о своей «инициации» Артуру и прочим рыцарям (не разделяющим его чувств), которые весело смеясь, решают принять вместе с ним его обет всегда носить перевязь — зеленый пояс, но не “for schame” (2504), а как знак отличия.
Рамочная конструкция мотива «игры в обезглавливание» оказалась «вставленной» в еще одну повествовательную «рамку» — артуровского двора в Камелоте, а затем еще в следующую — на сей раз последнюю,— в эпилоге поэмы вновь возникает тема легендарного троянского прошлого, с которой начинается пролог.
Функциональность этой изощренной композиционной схемы не вызывает сомнения, однако состоит не только в том, что помогает полностью захватить внимание слушателя или читателя. Строению целого удвоением, обрамлением, зеркальным отображением всех эпизодов и сюжетных мотивов, совпадением начала с концом, переплетением самих композиционных рамочных конструкций (легендарного троянского прошлого, пира артуровского двора в Камелоте, «игры в обезглавливание», охоты в замке и вне его с вплетенным мотивом обмена дарами), число которых не представляется вполне произвольным, можно найти аналог в самом тексте. В структуре поэмы воспроизводится строение ее ключевого символа — эмблемы безупречности Гавейна, endeless knot его пятиугольника45. Композиция, как бы моделирующая совершенство символа, превращается в художественный прием ars poetica в высшем смысле слова.
Подобно композиции, все использованные в поэме языковые и стихотворные средства отличаются предельной функциональностью, экономностью, и одновременно удивительной «филигранностью». Особенно верно служит поэту стих, то торжественный, насыщенный избыточными аллитерациями (aaa/ax) — в описаниях; то разговорный, с почти обиходными интонациями — в диалогах. Искусная манипуляция аллитерацией и более глубокими созвучиями позволяет добиться редких ономатопоэтических эффектов, как например, в сцене охоты Сэра Бэртилака (1158–1166), где явственно различим и лай собак, и крики людей, и звук охотничьего рожка, и хруст снега на морозе, и стон затравленного оленя. Яркий контраст описанию насыщенной шумами охоты являет непосредственно предшествующая ей сцена в замке, зде тишину в спальне Гавейна и вкрадчивость явившейся туда Леди позволяет передать использование в девяти строках подряд идентичной аллитерации на “l”. В таких описаниях, а их немало в поэме (ср., например, стихи 137–220 — о Зеленом Рыцаре; 500–533 — о временах года; 781–802 — о замке; 843–849 — о Сэре Бэртилаке; 943–969 — о дамах; 2163–2184 — о Зеленой Часовне), аллитерация почти перестает быть нужной в качестве средства метрической организации стиха, достаточно регулярного и близкого к силлабическому выравниванию. Из сигнала метрически релевантной градации ударений (как в древнегерманском аллитерационном стихе) она стремится превратиться во вполне орнаментальный прием, чье применение хотя и обязательно, но всегда мотивированно. В отличие от исконной германской традиции, аллитерация более не служит выделению слоговых морфем, но отмечает наиболее семантически важные слова (так, во всех случаях аллитерируют ключевые слова, обозначающие добродетели пятиугольника: fraunchyse, felawschyp, clannes, cortaysye, pitè). В этой семантической релевантности аллитерации может почудиться аналог смысловой нагруженности того же звукового повтора в англо-саксонской поэзии, однако там этимологизирующая сила аллитерации объяснялась исконной слитностью звучания со значением, неотчлененностью стиха от языкового материала — канонизацией принципа мотивированности, заложенного в языке46. В рассматриваемой же поэме аллитерация, вне сомнения, выделилась в стилистический прием.
Функциональным становится и лексическое богатство «Сэра Гавейна». Так описание Сэра Гавейна, отправляющегося из Камелота на своем коне Гринголете (чье имя, конечно, аллитерирует с именем владельца) дано исключительно при помощи галлицизмов (566–618); специализированная французская лексика преобладает и в описании соколиной охоты (1319–1372). Напротив, в сцене охоты на кабана (in a knot bi a clyffe, at þe kerre syde; 1431) широко используются скандинавские заимствования (ср. дисл. knöttr «бугор», дисл. kjarr «болотистая чащоба»), а враждебность северного ландшафта, в который Гавейн вторгается в поисках Зеленой Часовни, подчеркивается многочисленными северными диалектизмами и скандинавизмами, большая часть которых включена в аллитерацию: skwez (дисл. ský), skayned (дисл. skeina «скрести»), scowtez (дисл. skúti «нависшая скала»): þe skwez of þe scowtes skayned hym þogt (казалось, на скалах паслись облака; 2167).
В стилистическую игру «включается» даже словообразование. Интересно, например, окказиальное употребление конверсии в последних словах разгневанного Гавейна, обращенных к Зеленому Рыцарю: And comaundez me to that cortays, your comlych fere; 2411 — «Передайте мой поклон той куртуазной (имеется в виду „даме“, но можно понять и как „воплощению куртуазности“), Вашей прелестной жене». Значение слова “cortaysie” в поэме характеризуется максимальной диффузностью и соответствует целому комплексу понятий, обладающих способностью к специализации в любом направлении в зависимости от контекста: от небесной благодати или этикетного обращения до обозначения того, что предлагает Гавейну Леди. Подобная семантическая широта, непрерывно оборачивающаяся разными гранями контекстуальной обусловленности, и используемая как вполне преднамеренный прием, разумеется, не имеет ничего общего с лексической многозначностью исконной аллитерационной поэзии, диахронически связанной с текучестью устно-эпического текста.
Употребление формул (по самоочевидным причинам вопрос о формульности как системном принципе организации поэтической речи вообще не стоит) в поэме столь оригинально и индивидуально, что, может быть, применительно к ней следует совсем отказаться от этого термина, заменив его на «фразеологические единства» и «устойчивые словосочетания». Приведем один пример. После изматывающих бесед Гавейн уступает домогательствами Леди — соглашается принять ее подарок, утаив его от мужа, и благодарит как будто парадоксальным словосочетанием with hert and thought — «от сердца и ума» (1867), в котором пристальный взгляд различит и облегчение, и надежду на спасение, и признательность, и предвкушение победы, и слепоту заблуждения. Число подобных фразеологизмов в тексте поэмы минимально, что отличает ее от других аллитерационных поэм и тоже нуждается в объяснении. В устойчивых словосочетаниях, как и в любых клише, легко увидеть с одной стороны существенное подспорье в аллитерационной технике, а с другой, опасный соблазн, ведущий к стереотипности и риторической конвенциональности. Автор «Сэра Гавейна» слишком искусен в версификации, чтобы нуждаться в первом, и достаточно оригинален и движим стремлением к содержательности, чтобы избежать второго.
Соединение этих индивидуальных черт позволяет автору решиться на уникальный эксперимент, состоящий в совмещении дифференциальных признаков двух поэтических направлений: аллитерационного и рифмованного, как и всегда в поэме вновь управляемых семантикой. Сюжеты развиваются в аллитерационных строках, сгруппированных по семантическому признаку в строфы, длина которых варьируется от 12 до 37 строк, и которые завершаются рифмованными строками (так называемым «припевом с колесом» — bob and wheel) с константной структурой: одноударная строка + четыре трехударных строки с общей схемой рифмовки ababa. Появление рифмованных строк в поэме композиционно обусловлено: они вводятся на определенных нарративных стадиях, либо суммируя и обобщая содержание аллитерационных строк, либо резко перебивая ход повествования и создавая эффект внезапности, как, например, в сцене появления Зеленого Рыцаря в Камелоте (244–269), или в эпизоде прощания Гавейна. с как будто оставившей свои несбыточные надежды Леди вдруг звучит ее просьба принять подарок (1810–1816). Строфика, как и все остальные уровни организации текста, становится содержательной, стилистически значимой и функциональной. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что поэма, вне сомнения, является актом не только индивидуального, но и весьма искусного творчества, осознанность которого подтверждается самим ее автором (30–36), дающим косвенное указание на ее основной прием “letteres loken” — своеобразное «плетение словес», соединяющих все в тот же композиционный “endeless knot”. Искусность организации поэмы на всех ее уровнях обусловлена ее жанром, в котором можно видеть и роман, и пародию на него, как это делали те исследователи, которые утверждали, что «Гавейн сделал шаг к превращению в средневекового Дон Кихота»47. Автор поэмы не был первым, кто представил героя рыцарского романа в комических ситуациях (и «Рыцарь Телеги», и «Рыцарь со шпагой», и «Мул без узды», и «Персеваль» и многие другие произведения упоминались среди возможных источников английской поэмы). Важно другое: если «Сэр Гавейн» и роман, то стих и стиль его так далеки от аллитерационного, как это возможно только предполагать. Приведенные же выше рассуждения, можно суммировать в утверждении, что словосочетание «аллитерационный роман» содержит contradictio in adjecto, ибо традиционность формы непримирима с космополитизмом жанра.
Текст поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» известен подобно абсолютному большинству других среднеанглийских аллитерационных произведений по единственной рукописи, утрата которой в корне изменила бы наше представление обо всей этой поэтической традиции,— это так называемая Коттоновская рукопись: Cotton Nero Ах (terminus a quo — предположительно 1348, terminus ad quem — 1395), отличающаяся максимальным жанровым разнообразием при минимальном числе содержащихся в ней текстов: о «Сэре Гавейне» уже шла речь выше, «Терпение» (“Patience”) обычно относят к exempla, «Чистоту» (“Purity” или “Cleaness”) считают проповедью, «Жемчужину» (“Pearl”) — видением (названия поэмам были даны в XIX в. их первыми издателями Сэром Фредериком Мадденом и Ричардом Моррисом).
Для всех этих четырех произведений, а также для агиографической поэмы «Святой Эркенвальд» (“St. Erkenwald” — Харлейская рукопись: Herley 2250) обычно предполагается один автор (число гипотез, связанных с которым обратно пропорционально количеству информации достоверно известной), чье творчество таким образом удачно сочетает все известные нам жанры «аллитерационного возрождения» и рассматривается как весьма успешная попытка освоения новых жанров посредством старой поэтической формы, по таинственной причине оказавшаяся бесперспективной для дальнейшего развития английской литературы.
Внесению посильных корректив в эту точку зрения, связанных прежде всего с гипотетической рецепцией и трансформацией жанра романа в аллитерационной традиции в ее обусловленности поэтической формой (которая, как было показано, едва ли может считаться «старой», так как не имеет типологической связи с организацией исконной аллитерационной поэзии) была посвящена большая часть предлагаемой статьи. Что же касается постулируемого для поэм Коттоновской рукописи единого авторства, невозможность (или по крайней мере сомнительность) которого представляется вполне доказуемой на основании исследования данных стиля, стиха и языка, эта проблема тем не менее должна остаться за рамками данной работы. Обратимся к дидактическим жанрам, представленным перечисленными поэмами, и посмотрим были ли они вполне «новыми» для английской литературы.
Из всех упомянутых жанров в известной нам англо-саксонской поэзии, бесспорно, присутствует лишь один жанр видений, превосходным образцом которого является «Видение Креста» и, вероятно, генетически с ним связанная руническая надпись на Рутуэльском Кресте. Другие дидактические жанры, действительно, оказываются не освоенными дошедшей до нас английской поэзией, но никак не англосаксонской прозой, если можно называть «прозой» блестяще ритмически и риторически организованные и насыщенные аллитерацией проповеди с их exempla, которые мы находим у Вульфстана (ср. например, две строки из его знаменитой Sermo ad Anglos: oftor braecan þonne we bettan / innan ne ute // ac waes here and hungaer / stric and steorfa «часто нарушалось то, о чем мы молились, и внутри страны, и за ее пределами, была лишь вражда и голод, грабеж и погибель») или агиографию Эльфрика.
С точки зрения формальной организации англо-саксонская духовная проза значительно «поэтичнее», чем, например, знаменитая поэма Уильяма Ленгленда «Видение Уильяма о Петре Пахаре» (“Visio Willelmi de Petro Plowman”, вторая часть “Visio ejusdem de Do-wel, Do-bet et Do-best” — «Его же видение о Делай добро, Делай лучше и Делай наилучше»). Несмотря, на постоянное возникновение в поэме разнообразных риторических фигур ars praedicandi (повторения, сравнения, антиномические и тавтологические клише и т.д.), вне сомнения, доставленных Ленгленду традицией гомилетики, ее стиль отличается необычной для среднеанглийской аллитерационной поэзии свободой и близостью к повседневной речи: крайне расшатанным стихом с долгими, переполненными безударными слогами, строками (с интервалами между акцентами достигающими 8 слогов), слабостью и нерегулярностью аллитерационных созвучий, полным отсутствием поэтической лексики. Стиль Ленгленда мотивируется языковыми связями и основан на звуковом объединении лишь семантически или стилистически совместимых слов в их традиционно-языковых значениях. Аллитерация уже задана самим языком и подсказана или словообразовательным варьированием trewe: treweliche (I, 179), man: mankynde (XVIII, 212), seye: seide (I, 206) или этимологическим родством слов: shriftes: shryve (V, 140), barn: born (B XII, 147), knewe: kouthe (XV, 49). Во всех этих случаях фонетическое сходство является лишь результатом подобия лексем и, безусловно, служебно по отношению к Смысловому тождеству.
Сказанное на первый взгляд сближает поэзию Ленгленда как с англо-саксонской духовной прозой с ее простотой как дидактическим приемом, так и с древнеанглийской поэзией, но не классической, а той, какой она, возможно была бы, если бы сохранилась и после нормандского завоевания и смогла компенсировать утрату поэтической лексики и формульной системности; аналитизацию языка и наводнение служебными словами в проклизе, глушащими аллитерацию; грамматизацию порядка слов и развитие гипотаксиса со сложной системой союзов; тематическую и жанровую трансформацию, словом все то, что сделало неизбежной ее гибель48. Однако и в этом случае неуместность аналогий следует из показательного соотношения формы и содержания: если в аллитерационной поэзии они абсолютно слиты и едины, то у Ленгленда формальная организация явно принесена в жертву смыслу. В этом главенстве содержательности или, что в данном случае одно и то же, ущербности формы, едва ли можно видеть свидетельство художественной слабости автора или только проявление его демократического желания быть доступным самой широкой аудитории. Постараемся показать, что и такое соотношение формы и содержания можно рассматривать как авторский прием. Интересно, что сам Ленгленд обвинял себя (словами своего персонажа Vis Imaginative) в том, что слишком много внимания уделяет поэтической форме (makynges — «деланию», «отделке»: Thou medlest the with makynges and myghtest go sey thi sauter «ты занимаешься отделками, а мог бы идти проповедовать Псалтирь»; B XII, 16–19), ибо в мире, изображаемом в поэме, нет места просто поэту, которого nowhere welcome for his many talis (нигде не привечают из-за его многих рассказов; A II, 179) и против которого Петр Пахарь вполне однозначно предостерегает Рыцаря (A VII, 45–49).
Там, где странствует Уильям, поэзия с ее “makynges” оказывается не просто не нужной, но отвлекающей от поисков Истины (Treuthe), составляющих главный предмет поэмы и постоянно продолжающихся в последовательно сменяющих друг друга вариантах, последний из которых заканчивается обещанием нового путешествия as wide as the world lasteth «так далеко, как продолжается мир» (XX, 382).
Стремлением к независимости от диктата формы можно объяснить и обращение Ленгленда к идеалу поэтической «безыскусственности» — аллитерационному стиху в его среднеанглийском, предельно свободном и расшатанном воплощении (восходящем, возможно, к традиции «Брута» Лайамона, Вустерских фрагментов и др.)49. Регламентация, неизбежно накладываемая самим языком, также становится объектом борьбы: нарушаются нормы грамматики, рвутся синтаксические связи, рушатся традиционные коллокации и т.д. В желании выбраться «за пределы языка» Ленгленд отвергает «то, что всегда было… наваждением — исконную неадекватность языка и реальности»50, подрывая, изобличая язык, стих, стиль — все, что препятствует воссозданию «реального как воплощения невозможного»51. Можно предположить, что с желанием «выразить невыразимое» связаны и сложнейшие аллегории поэмы (объекты детальной литературной критики герменевтического направления) и ее жанр — видения, сменяющие одно другое как синтагматически, так и располагающиеся парадигматически: XI, 6–404; XVI, 20–167 — видения в видениях, т.е. стремящиеся к преодолению и жанровых условностей. Этот собственный жанр, создаваемый поэмой с ее функциональным синкретизмом (и политическая, и информативная, и сатирическая функции уже подвергались исследованию) решительно невоспроизводим, как невоспроизводима и ее сложнейшая и предельно индивидуальная архитектоника. Этот индивидуализм или, можно сказать, своеволие — ярчайшее проявление окончательного отделения автора от субъекта повествования, сохранили для нас и редкостно соответствующее контексту поэмы имя — Wille, а также многократно обыгрываемое Langland (среднеанглийский аналог англо-саксонскому Видсиду: Wīdsīþ — букв. Широкостранствующий?). Действительно, это — единственная общенациональная аллитерационная поэма,, дошедшая до нас более чем в 50 рукописях и давшая основание для многочисленных подражаний и продолжений..
Некоторые аллитерационные произведения унаследовали от Ленгленда его обличительный пафос, например, поэма «Символ Веры Петра Пахаря» (“Pierce the Ploughman’s Crede”), разоблачающая пороки четырех монашеских орденов устами честного труженика Петра Пахаря; или долгое время приписываемое Ленгленду произведение под названием «Ричард Неразумный» (“Pichard the Redeless”), подвергающее критике и наставляющее самого монарха Ричарда II. В других — разрабатывались определенные сюжетные мотивы Ленгленда: например, рассказ о праведном язычнике Траяне, спасенном Божьей милостью по причине своей веры (Treuthe) и благих дел (B XI, 140) был положен в основу блестящей агиографической поэмы «Святой Эркенвальд». В поэме, рассказывающей о том, как при строительстве собора Святого Павла в Лондоне на месте языческой synagogue было обнаружено чудесным образом нетленное тело праведного языческого судьи, чья душа была спасена слезами епископа Эркенвальда, мотивация Ленгленда подвергается характерной трансформации: Траян спасается благодаря своему совершенству, языческий судья — благодаря Святому Эркенвальду.
Интересны жанровые параллели к поэме Ленгленда — четыре аллегорических видения: «Скупец и Расточитель» (“Winnere and Wastoure”), «Разговор Трех Возрастов» (“The Parlement of Three Ages”), «Смерть и Жизнь» (“Death and Life”), «Молчун и Правдолюбец» (“Mum and the Sothsegger”). To общее, что имеют эти произведения с поэмой Ленгленда, не исчерпывается их жанровой принадлежностью, хотя, вероятно, с нею связано. Помимо текстологических параллелей («Видение Уильяма» начинается с антитезы, центральной для «Скупца и Расточителя»: «пашут и сеют, честно трудясь, а плоды их трудов расточители уничтожают своим обжорством» 21–22; «Разговор Трех Возрастов» и «Скупец и Расточитель» открываются почти идентичными описаниями весеннего утра и т. д.), поэмы связаны тематическим и структурным подобием: в рамки видения помещены прения (disputatio) аллегорических фигур, обсуждающих заботы вполне земные. Можно было бы усмотреть определенную последовательность в развитии центральных тем этих произведений: «Скупец и Расточитель» предлагает две формы существования в равной мере малопривлекательные; в «Разговоре Трех Возрастов» Юность (Youthe) и Зрелый Возраст (Medill Elde) сохраняют ту же оппозицию, бинарность которой нарушается вмешательством Старости (Elde), опровергающей обоих неотвратимостью конца; «Смерть и Жизнь» развивает ту же тему, противопоставляя жизнь земную Жизни Вечной; «Молчун и Правдолюбец» завершает сюжет, давая «сельскую» картину рая земного с цветущими садами, тучными коровами, роящимися пчелами и их мудрым хозяином, который знает и не боится говорить правду, — все эти темы и аллегории актуальны и для «Видения Уильяма о Петре Пахаре», которыми оно тем не менее отнюдь не исчерпывается. Абстракции Ленгленда низводятся в этих поэмах до уровня материальной конкретности. Так, например, одна из центральных аллегорических фигур «Видения Уильяма» — Голод помещается в поэме «Скупец и Расточитель» в ряд с собаками и лошадьми (Bot Hungere and heghe horses and howndes full kene; 237) и имеет идентичную синтаксическую позицию и даже аллитерацию, тем самым «развоплощаясь» и теряя апелляцию к образу. Можно было бы сказать, что в известном смысле эти поэмы дают однозначные: «экономические» или «политические» (например, конфликт между Скупцом и Расточителем разрешается Королем, отправляющим первого — в Рим к кардиналам, а второго — в Лондон) решения проблем принципиально неразрешимых для Ленгленда.
Несмотря на это, взгляды на поэтическое искусство, высказываемые в этих поэмах, во многом совпадают с теми, которых придерживался Ленгленд. Так, в поэме «Скупец и Расточитель», после характерного для среднеанглийской аллитерационной поэзии «троянского пролога», вновь напоминающего о легендарном основателе Британии, возникает ностальгическая тема, родственная не только «Видению Уильяма», но древнеанглийским элегиям: Whylom were lordes in londe þat loued in thaire hertis / To here makers of myrthes þat matirs couthe fynde (Прежде жили лорды в стране, что от сердца любили внимать авторам прекрасных поэм, чьи темы они сами находили; 20–21) (ср. в англо-саксонской элегии «Морестранник»: «Уже не стало на земле величья: / ушли всевластные; …не те державцы, / что жили допрежде, … / владетели пределов добродетельные и правые»; (24–28). Тема эта далее продолжается в связи с ролью истинного поэта и поэтического мастерства: «Теперь же дитя на вид, без бороды, трех слов связать не может, чуть только начнет, как сойка, щебетать и говорить непристойности, (jangle als a jaye, and japes telle), будут его любить и почитать и будут ему верить гораздо больше, чем тому, кто сочинил все сам» (24–28). Заявление о полной осознанности и индивидуальности авторства, содержащееся в последней строке находится в странном противоречии с несамостоятельностью содержания, в определенной степени почерпнутого, как было показано выше, у Ленгленда, но вместе с тем полностью оправдывается независимостью и оригинальностью формальной организации. Характерные черты аллитерационной поэзии: ритм, стих, аллитерация, формулы, поэтическая лексика с ее богатством синонимического варьирования вновь превращаются здесь в прием и формализуются, с чем мы уже сталкивались на примере «романа». От собственно аллитерационной поэзии остается лишь ощущение ее традиционности (ср. бесконечные вариации «троянских прологов») и национальной исконности, в сохранении которой особая роль принадлежит восточным (северным) диалектам (ими сочинены все без исключения среднеанглийские аллитерационные произведения). Интересно, что чуть раньше в поэме «Скупец и Расточитель» говорилось о том, что неиспорченного сына автора, воспитанного на востоке Англии, страшно посылать на «растленный» юг, т. е. в столицу с ее соблазнами, где в чести юноши, которые «не могут трех слов связать» (нельзя не предположить, что речь идет о сочинении канонической аллитерационной строки, связанной аллитерацией именно трех слов: aa/ax), а только Jangle als a jaye and japes telle — строка, которая была бы вполне уместной по отношению к придворной англо-нормандской рифмованной поэзии,. не без основания осознаваемой в качестве космополитической, неоригинальной и противопоставляемой «исконным» аллитерационным произведениям с их традиционным содержанием, старыми жанрами, но по необходимости «новой» формой.
Формальные инновации при условно традиционном содержании совершенствуются в поэмах Коттоновской рукописи, к которым нам надлежит вернуться. Допуская известное упрощение, жанр таких произведений как «Чистота» (“Cleaness”, “Purity”) и «Терпение» (“Patience”) можно охарактеризовать как проповедь с включенными в нее exempla. Традиционность жанра проявляется в заметном подчинении дидактической установке нарративной, тернарностью гомилетической композиции, с некоторой нарочитостью подчеркиваемой в эпилоге: Thus upon thrynne wyses I haf yow thro schewed (Так тремя способами я вам показал; 1805). В «Терпении» иллюстративность удовлетворяется одним примером — Ионы, в «Чистоте» таких примеров значительно больше и связаны они с Люцифером, Адамом, Всемирным Потопом, Авраамом, Лотом, Содомом и Гоморрой, Навуходоносором и Валтасаром. Только один перечень говорит о примечательном несоответствии названий поэм большинству избранных для иллюстрации примеров и указывает на основной, но отнюдь не традиционный, метод изложения, единственно убеждающий в насущной необходимости поименованных в заглавии добродетелей, а не просто показывающий их желательность (что следовало бы из позитивной трактовки материала).
В центре повествования оказываются не столько трехи и кары за них, сколько истории самих грешников, в каждой из которых порок и кара за него как бы усугубляются. Соответственно контекстам эволюционирует и значение ключевого слова “fylþe” от буквального: грязь, пятнающая одежды грешника, (в параболе о Свадебном Пире: 46–176), к переносному: греховность гордыни Люцифера (205–234) и непослушания Адама (235–248); похоть fylþe of flesh) в наказание за которую были разрушены Содом и Гоморра (601–1048); кощунство Валтасара (1333–1804), осквернившего священные сосуды, похищенные Навуходоносором из Иерусалимского храма. Сопоставление и противопоставление ситуаций постепенно раскрывает все идеограммы, заключенные в этой центральной лексеме и воссоздают ее глобальную семантику — можно было бы сказать, что вербальное как бы познается через экспериментальное.
Виртуозность лингвистического исполнения, предполагающая свободу в обращении с каноническими источниками, обусловливает дальнейшие трансформации, значительно превосходящие те, которые были исследованы Э.Ауэрбахом на примере фрагмента «Книги Бытия»52. Каноническая трехчастная структура, положенная в основу композиции, усложняется благодаря: введению (1–48), излагающему параболу о Свадебном Пире (49–176) и знакомящему с мотивом fylþe (пока в буквальном значении этой лексемы) и понятием греховности и кары за нее (177–204); переходным темам, связывающим эпизоды (545–600; 1049–1148) и заключением (1805–1812). Во всех этих частях возникает фигура рассказчика, комментирующего истории Ветхозаветных грешников и праведников, соединяющего их темой Imitatio Christi и тем самым добивающегося непрерывности повествования.
Стремлением к связности повествования обусловлены и мотивация поступков персонажей и освещение их внешнего облика. Наиболее ясно это видно на примере поэмы «Терпение», где каждый жест, каждое душевное движение Ионы подчеркивается языковыми и стилистическими средствами (ср. эмфатическое употребление тройного отрицания в отказе Ионы отправиться в Ниневию: That he nolde thole, for nothyng non of those pynes. «Что он никогда не будет терпеть никаких мук»; 91). Все, что происходит с Ионой и персонажами. «Чистоты» описано предельно конкретно, с максимальной степенью детализации, превращающей абсолютно истинные иадмирные истории Ветхого Завета в разнообразное и, несмотря ни на какие чудеса, привычное средневековое настоящее, в котором с особенной настойчивостью разрабатываются сцены, наиболее традиционные для аллитерационной поэзии.
Аллитерационная тоника морской буря, опирающаяся иа богатейшую англо-саксонскую традицию, возникает в сравнительно небольшой (531 стих) поэме «Терпение» дважды (в описании рассказчика и в молитве Ионы из чрева кита), в «Чистоте» безграничные возможности для ее воссоздания предоставляет история Всемирного Потопа. Именно традицией объясняется «взаимопронизанность эпических и космогонических образов»53, понятие о наводнении оказывается нерасторжимо слитым с этическим образом беззакония (гибель «из-за» нечестия). Аллитерационный стих оказывается здесь превосходным средством, способным передать и трагическое благородство обреченности: Luf lokez to luf and his leve takez, / For to ende alle at onez and for ever twynne (Любовь к любви льнет и жизни лишает / Конец один для всех, не навечно вдвоем; 401–402) и тщетность попыток гребцов, потерявших парус: In bluber of the blo flod bursten her ores (В бурлении кипящего потока раздробились их весла; «Терпение» 221), воссоздаваемую блестящей ономатопеей строки.
Необычное, в том, числе и своей подробностью, описание падения Люцифера не опирается на экзегетическую традицию, но его трактовка как бунта вассала против своего господина не уподобляется ли германизированному образу Сатаны как дружинника, поправшего верность, и по справедливости подвергнутого каре своим Властелином, в англосаксонской аллитерационной поэме «Книга Бытия» (“Genesis B”)? Примечательно, что в «Чистоте» Люцифер и восставшие ангелы также наказаны по справедливости и «в меру»: In the mesure of his mode (В меру его духа; 215) — строка, почти дословно воспроизведенная (Al in mesure and methe «Все в меру и со сдержанностью»; 247) в изображении кары, посланной Адаму, вновь нарушившему обет верности. Нужно отметить тем не менее, что в поэме «Терпение» тот же мотив, как известно, осмысляемый как потенциально героический и более поздними эпохами (от Марло и Мильтона до Байрона и Шелли), низведен до почти фарсового уровня «дегероизированным», капризным, себялюбивым, непослушанием Ионы. Может быть, этим обстоятельством объясняется примечательное отсутствие в поэме упоминаний пророческого, преобразовательного (Мф XII, 40) смысла всего повествования?
На основании сказанного может создаться впечатление, что поэме, обличающей грех непослушания не вполне уместно называться «Терпение» (“Patience”), равно как и для произведения, чьи сюжеты разоблачают вселенскую «грязь» не совсем подходит заглавие «Чистота». Разумеется, ложность такого впечатления можно легко показать и сославшись на проявления беспредельного терпения Того, кому столь абсурдно пытается противостоять Иона, и на немногие (по самоочевидным причинам) примеры из жизни праведников (Ноя, Авраама, Лота). Однако не только темы и сюжеты ответственны за раскрытие центральных для обеих поэм антитез, но не в меньшей мере их формальная организация — стих и язык.
Начиная с первой строки: “Clannesse who so kyndly cowthe comende” (I) лексемы “clannesse”, “clene” бесконечно воспроизводятся на всем пространстве поэмы, имплицитно присутствуя и в пронизывающих текст аллитерациях на “cl” (clere, clutte, clay, cluster, clowde, cloven и т.д.) и трансформируя одно из ключевых слов (об «идеограмматическом» раскрытии значения которого уже шла речь), обозначающее порок “fylþe”, в “unclannesse”. О сознательности употребления организующих форму и содержание приемов непосредственно свидетельствует текст пролога, в котором поэт говорит о себе как о «творце сосуда правды, мастере слов, раскрывающем их тайное значение», а главное: Fayre formez mygt he fynde in forþering his speche (Прекрасные формы может он найти, творя свою речь; 2) В параболе о Свадебном Пире эта тема распространяется и на ful fayre (прекрасных), clene of hert (чистых сердцем), живущих по высшим законам людей, чья прекрасная речь отличает их от запятнавших себя грехом, и поэтому лишенных fayre formez «прекрасных форм» (и в вербальном и физическом смысле) и возводится к словам Христа: heled… of hynde speche (излечивал… своею речью; 25), известным благодаря Благовествованию Святого Матфея þat þus of clannesse unclosez a ful cler speche (который в чистоте своей раскрыл ясную речь; 26).
Представление речи как «сокровищницы слов», открываемой поэтом, не может не напомнить англо-саксонское wordhord onleac «сокровищницу слов раскрыл» (о скопе на пиру в «Беовульфе»). Образ драгоценного сосуда, наполненного мудрыми словами, возникает в поэме и применительно к самому поэту, о чем уже говорилось, и с меньшей метафоризацией в описании священной чаши, оскверненной Валтасаром. Важность и детальность описания этой чаши (1439–1488) превращают ее в центральный символ «Чистоты», поругание которого, влечет за собой самую страшную кару — убийство Валтасара, описанное с непередаваемым в переводе почти отвратительным натурализмом (1779–1792), и помещенное в финал поэмы, замыкающий греховную цепь злодеяний и соединяющий в единое целое буквальное и метафорическое.
Приведенные рассуждения имели целью опровергнуть обвинения в структурной аморфности54, обычно предъявляемые к рассмотренным поэмам, и показать сознательную искусность формальной и тематической организации этих произведений, в значительной степени поколебавшую традиционность наиболее канонического (по условию) жанра. Указанные особенности достигают предела в последнем произведении, которое нам предстоит рассмотреть и которое без преувеличения можно назвать самым прекрасным памятником аллитерационному возрождению.
Перевести название поэмы, о которой идет речь, “Pearl” как «Жемчужина» значит сообщить не больше, чем определив ее жанр как «видение». Впрочем, подобное определение жанра этой поэмы отнюдь не самоочевидно. Распространенное в начале века направление исследований, согласно которому поэма рассматривалась в качестве источника реконструкции гипотетической биографии автора, а жанр ее, соответственно определялся как «биографическая элегия»55 на смерть дочери (или возлюбленной) поэта, сменилось позднее разнообразными герменевтическими трудами, связанными с аллегорическими интерпретациями поэмы. «Жемчужина» трактовалась и как «типологическая метафора праведного Христианского поведения», и как аллегория «Чистоты», «Евхаристии», «души самого поэта», «Вечного Блаженства»56; была предложена интерпретация поэмы на четырех уровнях: буквальном — «потерянная драгоценность», аллегорическом — «Невинная Душа», тропологическом — «Душа, стремящаяся к Вечному Блаженству», анагогическом — «Вечная Жизнь в Граде Божием»57. Наконец, в самое последнее время появились исследования «Жемчужины», связанные с нумерологией58 и символизмом, которые имеют со всеми предшествующими только то общее, что вновь подходят к поэме как к замысловатой криптограмме, поддающейся однозначному решению.
Между тем, сама возможность многообразных трактовок едва ли случайна. Нельзя ли предположить, что эта множественность толкований, многосмысленность (родственная эпической, но превращенная в прием) входили в замысел поэта, так жё как и виртуозность их воплощения? Разумеется и то, и другое стало возможным благодаря тому, что ее автор имел доступ к богатейшим традициям: экзегетической, на которую указывает он сам («В Апокалипсисе это описано, так как его создал Апостол Иоанн», 983–984), и светской (исследованной в настоящем сборнике на примере поэм-видений Чосера), к которым, может быть, следует сделать менее очевидные добавления. Во-первых, нужно помнить о собственно англо-саксонских видениях, которые едва ли могут быть полностью отождествлены с первой из упомянутых традиций, что в особенности касается «Видения Креста» с его многозначной динамичной символикой, развивающейся параллельно эволюции самого героя — сновидца. Во-вторых, не исключена типологическая связь «Жемчужины» с произведениями того же жанра внутри самой среднеанглийской традиции аллитерационного возрождения, соотносящая ее с таким казалось бы максимально ей противопоставленным произведением как «Видение Уильяма…» Ленгленда, чей образ Петра Пахаря оказывается не менее динамичен и энигматичен в своем параллелизме главному герою.
Совмещение и противопоставление этих традиций в «Жемчужине» дает результат, предельно превосходящий простую их сумму. Развитие метафоры начинается с самой первой строки: Perle, plesaunte to prynces paye (I) «Жемчужина, прекрасная для принцев плата». Общее значение (perle — «жемчужина» вообще) неприметно конкретизируется и превращается в ту особенную драгоценность, об утрате которой герою, одновременно являющемуся и рассказчиком, суждено скорбеть не только на протяжении действия поэмы. Двойной фокус, достигнутый благодаря совмещению функций героя и рассказчика, придает особую яркость всему переживаемому, которое одновременно (с самого начала) оказывается и уже пережитым. Нуждается в комментарии употребление в приведенных строках объектного местоимения her вместо it, если бы речь действительно шла только о драгоценности. Грамматический род как бы персонифицируется и однозначно указывает на пол в следующей строке: So smal, so smothe, her sydes were (6) «Такими маленькими, такими нежными были ее бока (грани)». И, наконец, все три значения совмещаются в последних строках той же строфы, где поэт говорит о своей утрате: I dewyne, fordolked of luf-daungere, / Of that pryvy perle wythouten spot «Я страдаю, истомленный любовной тоской / О моей жемчужине без изъяна». (11–12).
Так с предельной экономией и многозначностью основная тема заявлена в первой строфе поэмы, в контексте которой кажется странным употребление только слова luf-daungere («любовная безысходность»?), перегруженного коннотациями совсем другой языковой сферы и более уместного в таких произведениях, как, например, «Роман о Розе». Тому же конвенциональному миру fine amour на первый взгляд принадлежит и изображение locus amoenus (где поэту посылается видение), которое, тем не менее оказывается не вполне традиционным, ибо вместо майского утра действие происходит августовским вечером: quen corne is corven wyth crokez kene (40) «когда колос срезают острыми серпами». Измученный горем Поэт засыпает и переносится во сне в Paradys erde (райскую землю), где встречает Деву (a mayden), от которой исходит такое сияние, что он не сразу узнает в ней Свое Дитя (a faunt), свою Жемчужину. Однако референция метафоры, на которую указывает почти дословное воспроизведение шестой строки пролога (so smothe, so smal, so seme slyght; 190) не остается несомненной до самого конца поэмы. Неуверенность звучит уже в первых словах поэта, обращенных к Деве: О perle, quod I in perlez pyght / Art thou my perle that I haf playned… («О жемчужина»,— воскликнул я,— «в жемчужном наряде, ты ли моя жемчужина, о которой я тосковал?»; 241–242). Возникающие в тексте метафоры предельно конкретны, не просто perle, juel, но образы-индивидуализации: my perle (242), my juel (249), сам поэт — juelere (252), говорящий о своих страданиях на том же языке fine amour, которому принадлежат и лексемы longeyng (244) — «томление» и daunger (250) «неприступность».
Аллегорическая фигура Daunger, как уже упоминалось, связана с «Романом о Розе», чей центральный образ немедленно возникает и в «Жемчужине». Стараясь использовать привычные для собеседника понятия, Дева просит его утешиться: «Ты потерял всего лишь розу, которая цвела и увяла, как ей повелела природа» (269–270). Однако поэт — всего лишь juelere, как он называет себя сам и как говорит о нем Дева, в изображении которого все видение оказывается предельно материальным и чьему пониманию доступно лишь буквальное (чем, как можно предположить, изначально задана безуспешность поисков аллегорий в поэме). После слов Девы о том, что, несмотря на юный возраст, она сделалась невестой Агнца, поэт недоверчиво восклицает: «Ты не прожила и двух лет в нашем мире, не знала ни „Отче Наш“, ни „Символ веры“, и Королевой сделалась в первый же день!» (481–484). В ответ Дева рассказывает параболу о винограднике (493–588; Мф. 20) и показывает ему Небесный Иерусалим, в изображении которого метафора, чье отнесение к конкретному объекту до сих пор удерживало ее в пределах значений, прямо или косвенно связанных с действительностью, преодолевает «земное тяготение» и превращается в символ, стремящийся «обозначить вечное, …то, что считается подлинной реальностью, не поддающейся концептуализации. Именно символ выражает „ощущение запредельности“ (the sense of beyond)»59: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу…» (Мф. 13,44); «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45–46).
Поэт видит Агнца, в изображении которого возникает тот же символ: Му Lombe, my Lorde, my dere jeuelle (795) «Мой Агнец, мой Господь, моя дорогая драгоценность», процессию Невест Христовых и среди них свою lyttel quene (маленькую королеву; 1147), к которой он так же нежно обращался и раньше: my blissfol beste (мое высшее блаженство; 279); my swete; (моя милая; 325); my dere endorde (моя самая дорогая; 388). Этот язык оказывается непоправимо уместным в контексте его следующего, последнего, и вполне «героического» поступка. Не в силах более терпеть daungere, поэт, дает волю своей wretched wylle (несчастной воле) и, подобно герою рыцарского романа, бросается, рискуя жизнью, в отделяющий его от Девы, поток… И теряет ее навсегда. Проснувшись в том же саду, он не перестает скорбеть, но вверяет свое сокровище Богу и молит о даровании Царствия Небесного всем ушедшим: Не gef us to be his homly hyne / Ande precious perlez into his pay «Да будет нам всем дано стать его домочадцами и бесценными жемчужинами Ему на радость» (1211–1212).
Развитие символики совершило полный круг и замкнулось композицией самой поэмы: первая строка почти вербально воспроизводится в последней, чего нельзя сказать о значении символа, несмотря на то, что пройдя все стадии воплощения и совместив их в значении последнего perlez, он вновь вернулся к материальному, но отнюдь не к объектному. Метафора, исполнив свою «земную» задачу создания такого образа объекта, который бы «вскрыл его латентную сущность»60, и углубив понимание действительности, слилась с уводящим за ее пределы, символом (ср. множественное число последнего perlez).
Допуская известную метафоричность стиля, почти неизбежную, когда речь идет о «Жемчужине», можно было бы говорить о «сферической» организации поэмы на всех ее уровнях, образуемых бесчисленными концентрическими окружностями. На тематическом уровне проще всего это показать на примере героя. Его томление (longeyng) и горе в начале поэмы преобразуются, но сохраняются и в конце (ср. употребление настоящего времени только в этих двух эпизодах); свое видение он с самого начала по-рыцарски рассматривает как «чудесное приключение» (64) и соответственно ведет себя в финале; справедливость упрека Девы, что он put in a mad porpose (движим безумной целью; 267) подтверждает в конце он сам: Lorde, mad hit arn that agayn the stryven (Господи, безумны борющиеся с Тобой; 1199); образу «розы», введенному Девой (269), эхом вторит обращение к ней поэта so ryche a reken rose (пышная прекрасная роза; 906). Та же «сферичность» композиции проявляется и на уровне «типовых сцен»: осенний пейзаж начинает и, трансформируясь, заключает поэму, внутри него помещается описание Paradys erde (Райской земли) и превосходящее его в декоративности, ибо дано в восприятии jueler (ювелира) изображение Небесного Иерусалима, отделенного от героя одним и тем же (но описанным дважды) потоком.
Особая орнаментальность, «драгоценность» отличает организацию строфы. Напомним, что из всех произведений аллитерационного возрождения, строфическая организация была использована лишь в «Сэре Гавейне», где усилия поэта концентрировались только на четырех кратких строках (“bob and wheel”), замыкающих собственно аллитерационные. В «Жемчужине» строфа состоит из двенадцати строк, число которых как бы воспроизводится дважды в общем числе стихов поэмы (1212), и, вероятно, имеет нумерологические соответствия в изображении Небесного Иерусалима61. Сложнейшая схема рифмовки (ababababbcbc), в которой предполагают эмбриональную форму английского сонета62, изобретательнейшие внутренние рифмы, рефрены, ритмические вариации, разнообразие лексических, а, следовательно, и фонетических, повторов, подхватываемых одной строфой от другой и превращающих 101 строфу поэмы в своеобразный аналог венку сонетов, игра оттенками ключевых слов, изощренные сети богатейшей аллитерации, раскинутые по всем строфам — все в этой «запредельно» орнаментированной форме, как бы воссоздающей «музыку сфер», с непередаваемым искусством воспроизводит центральный символ поэмы.
«Жемчужина» достигает того же идеального соответствия содержания, воплощающей его внешней форме, что и исконная аллитерационная традиция, однако содержательность формы приобретается ценой значительно более дорогой, чем просто радикальная трансформация всех характерных черт этой традиции (исчезают формулы, архаическая поэтическая лексика и проч.). В этой поэме с ее неповторимой и не только в среднеанглийской поэзии по выразительности формой оказывается осуществленным еще один важнейший синтез — двух поэтических направлений: поэзии аллитерационного возрождения и рифмованного силлабо-тонического стиха, служившего ей объектом настойчивого противопоставления на протяжении всей эволюции. Это обстоятельство делает сомнительной справедливость того единственного заключения, на которой сходятся все исследователи рассматриваемой традиции — абсолютной бесперспективности ее для истории английской литературы. Блестящий результат, достигнутый в ходе эволюции аллитерационным возрождением,— поэзия, образцом которой является «Жемчужина», процветает и в XIV и XV веках (ср. корпус рифмованных произведений, использующих орнаментальную аллитерацию и тринадцатистрочную строфику: «Приключения Артура» “The Awntyrs off Arthure”, «Летнее Воскресение» “Summer Synday”, «Сусанна» “Susannah” др.) и не только не исчезает бесследно, но, претерпев хорошо известные и исследованные стадии канонизации и деканонизации отдельных приемов, доживает до наших дней.
Итак, может быть следует, отказавшись от традиционного взгляда на аллитерационное возрождение как на некий монолитный корпус текстов постараться увидеть способные к эволюции поэтические направления, среди которых вполне законное место принадлежит и аллегорический поэзии Ленгленда, и символике «Жемчужины». Объединяет эти памятники принадлежность к традиции, не имеющей общности с классическим англо-саксонским аллитерационным стихом, но осмысляющей себя как ориентированную на его канон.
Таким образом, картина аллитерационного возрождения представляется обратной общепринятой: не старая форма обнаруживает неадекватность новым жанрам, но посредством новой (по необходимости) формы воссоздаются исконные, превосходно освоенные традицией, жанры: духовные (видения, проповеди) и героико-эпические. Напротив, жанр романа, наиболее популярный в англо-нормандской литературе и усвоенный среднеанглийской аллитерационной традицией, остается внутри нее или на положении отрицаемого («Смерть Артура»), или травестируемого («Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь»), или вовсе невостребованного. Однако и исконные жанры подвергаются значительной трансформации, усложнению и обогащению в среднеанглийской аллитерационной поэзии, как бы поднимающейся над той традицией, которую она с таким искусством имитирует. Жанровые границы в среднеанглийской поэзии оказываются значительно менее зыбкими, чем в англо-саксонской литературе с ее единством аллитерационной формы и «ускользающим от четких жанровых определений многообразием содержания»63. Относительная устойчивость жанровых границ связана с функциональностью среднеанглийской аллитерационной техники, зависимой от жанровой и тематической организации каждой отдельной поэмы.
Эволюции жанров, предложенной в работе, соответствует параллельное развитие аллитерационной поэтической формы, основные направления которого можно суммировать следующим образом:
I. Ритм: а) Из пяти метрических типов, представленных в англо-саксонской поэзии, сохраняются лишь A —́ x —́ x (прообраз ямба) и B x —́ x —́ (прообраз хорея); б) Увеличение длины строки влечет рождение альтернирующего ритма; в) Разрушение Hakenstiel, крайняя редкость и стилистическая маркированность enjambement, перемещает цезуру с середины строки на ее конец, что предвосхищает появление рифмы.
II. Аллитерация: 1) Звуковой состав: а) не только три исконные древнегерманские группы sp, st, sk, но и любая группа согласных может трактоваться стихом как единое фонологическое целое, что ведет к компенсаторной экспансии аллитерации; б) в отличие от древнегерманской традиции, где аллитерировали только разные гласные (ср. древнеисландский «Перечень размеров»64), начинают аллитерировать идентичные гласные (cм. на графике линию I), следовательно, аллитерация оказывается значимой не столько для «слуха», сколько для «глаз», что подтверждает книжный характер среднеанглийской поэзии, предназначаемой для чтения.
2) Местоположение аллитерации: а) внутри краткой строки: в противоположность древнегерманским канонам аллитерируют безударные префиксы, служебные слова, вторые компоненты сложных слов, следовательно, аллитерация утрачивает связь с языком, с ударением и со смыслом; выделяет слово, а не слог; б) внутри долгой строки: сохраняется основной древнеанглийский тип aa/ax (см. на графике линию 2), но появляются новые типы (особенно распространенный aaa/ax, обязанный своим появлением удлинению строки — см. график: линию 3); аллитерация начинает противоречить исконному акцентному рисунку строки 3,5—3—4—1, то есть меняет свою функцию, Превращаясь из структурной в орнаментальную; в) вне долгой строки: четвертый ударный слог, в соответствии с древнегерманским каноном исключавшийся из аллитерации, задает звуковой повтор для следующей строки (см. на графике линию 4); тем самым, в отличие от англо-саксонского стиха, аллитерацией соединяются две или более строки, что говорит о разрушении автономности долгой строки и зарождении тенденции к строфичности.
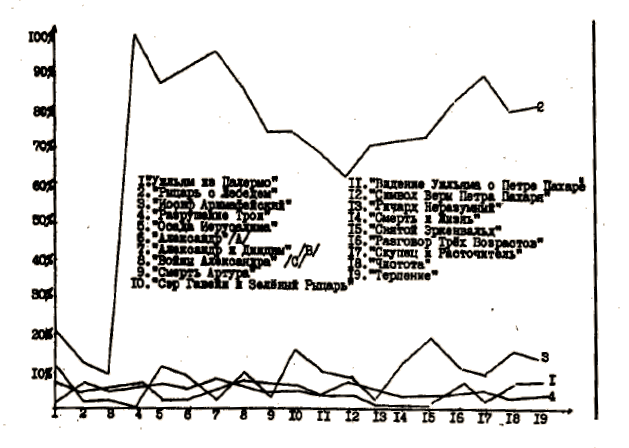
Приведенная диаграмма показывает совпадение направлений жанровой и формальной эволюции среднеанглийской поэзии: для стадиально ранних памятников (переводных и в большей или меньшей степени ориентированных на роман) характерна наиболее расшатанная аллитерационная форма; тексты, следующие традиционным жанрам, отличаются каноническим воспроизведением формальных особенностей аллитерационного стиха; в произведениях, выходящих за рамки аллитерационного возрождения, привносится максимальное число формальных инноваций, полностью разрушающих даже внешнее подобие аллитерационному стиху. Воссоздание жанров осуществляется посредством предельно функциональной формы.
В стремлении к возрождению исконной литературной традиции, впервые возникшем в XIV в, но распространившемся и на последующие литературные эпохи, вплоть до XIX века — ср. творчество Рихарда Вагнера и Джерарда Мэнли Хопкинса — и XX века — поэзию У. X. Одена, можно видеть результат сознательного авторского творчества, вероятно, связанного с целым рядом национальных и политических причин (ср. концепцию «баронской оппозиции», предложенную в 30-ые годы Халбертом65). Не исключено, что мы имеем дело с попыткой создания собственной национальной литературы со всем богатством ее традиционных жанров и осмысляемой как «исконная» поэтической формой в противовес англо-нормандской литературе метрополии, сознательным отталкиванием от которой (а отнюдь не провинциальностью) объясняется замеченное многими исследователями66 отсутствие куртуазно-любовной тематики (разумеется, немыслимой и в той традиции, которая служит для среднеанглийской литературы эталоном), доминирующей, например, в поэзии Чосера и его окружения (для которых артуровские темы, напротив, архаичны и возникают только как объект иронии). Можно, вероятно, предложить объяснение и еще одному примечательному обстоятельству, связанному с рукописями аллитерационных поэм, как правило, не иллюминированных (кроме Коттоновской) и единичных (напомним, что 18 из 20 рассмотренных нами поэм дошло до нас в одном или двух списках, в чем тоже обычно видят свидетельство их провинциальности67. Нужно помнить, однако, что большинство рукописей датируется самым концом XIV — началом XV века, когда магистральные направления развития английской поэзии были давно определены Чосером, Гауэром и их последователями, создавшими английские Версии европейских поэтических форм. Данные диалектов68 подтверждают впечатление, что аллитерационная поэзия как будто отступает все дальше на север под давлением лондонской чосеровской школы. Не следует, тем не менее, преувеличивать роль этой школы в судьбе аллитерационного возрождения, которая оказалась губительной только в том Смысле, что слила эту традицию со своей, как ясно видно на примере «Жемчужины». Но не стоит и приуменьшать ценность приведенных в начале статьи стихов Чосера, ироническому взгляду которого оказались доступными цель и смысл аллитерационного возрождения, соотношение жанров и формы внутри этой традиции, что не превращает, однако, эпиграф в эпитафию.
1 Chambers R.W. On the Continuity of English Prose from Alfred to More and his School. // Early English Text Society, Original Series, 1937. Vol. 191.
2 Ker W.P. Medieval English literature. Oxford, 1969.
3 Pearsall D. Old English and Middle English Poetry. London, 1977, p. 150–188; The Alliterative Tradition In the 14th Century. Ed. B.S.Levy, P.E.Szamach. Kent, 1981; Middle English Alliterative Poetry and ils Literary Background. Ed. D.Lawton. Cambridge, 1982.
4 Waldron R.A. Oral-Formulaic Technique and Middle English Alliterative Poetry. // Speculum, 1957. Vol. 32, pp. 792–804; Oakden J.P. Alliterative Poetry in Middle English. Archon Books, 1968, pp. 263–364, 381–392.
5 Turville-Petre Th. The Alliterative Revival. Cambridge, 1977.
6 Стеблин-Каменский М.И. Фольклор и литература и проблема литературного прогресса. // Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978, с. 140.
7 Barron W.R.J. Alliterative Romance and the French Tradition. // Middle English Alliterative poetry and its Literary Background, p. 70–87.
8 Некоторые исследователи, например: Spearing A.C. Readings in Medieval Poetry. Cambridge, 1987, p. 134–172 причисляют все без исключения разбираемые ниже произведения к жанру романа.
9 Billings А.Н. A Guide to the Middle English Metrical Romances. // Yale Studies in English. New York, 1901. Vol. 9, p. XI; A Literary History of England. Ed. A.C.Baugh. London, 1950, p. 174; Pearsall D. Op. cit., 1977, pp. 143–144.
10 “Guillaume de Paleme” известен по единственной рукописи, состоит из 9663 восьмисложных стихов. См.: Dunn C.W. The Foundling and the Werwolf. // A Literary-Historical Study of “Guillaume de Paleme”. Toronto, 1960, pp. 3–10.
11 На подобные экстраполяции обречены все, кто предполагает «устное бытование» поэзии аллитерационного возрождения, так как устная традиция в условиях грамотности неизбежно признается «низкой». Ср., например: Pearsall D. Op. cit., р. 155.
12 Здесь и далее все диалектные данные цитируются по: Oakden J.P. Op. cit., pp. 47–102.
13 Barron W.R.J. Chevalere Assigne and Naissance du Chevalier au Cygne. // Medium AEvum, 1968. Vol. 36, pp. 25–37.
14 Barron W.R.I. Joseph of Arimathie and Estoire del Saint Graal. // Medium AEvum, 1964. Vol. 33, pp. 184–194.
15 Oakden J.P. Op. cit., p. 41.
16 Стеблин-Каменский М.И. Древнеисландская литература. М., 1979, с. 177–197.
17 Поэма «Осада Иерусалима» (“The Siege of Jerusalem”) типологически и текстуально близка произведению «Взятие Трои» и поэтому не рассматривается отдельно в данной статье.
18 Shepherd G. The Nature of Alliterative Poetry in Late Medieval England. // Proceedings of the British Academy, 1972. Vol. 56, pp. 57–76. Field R. The Anglo-Norman Background to Alliterative Romance. // Middle English Alliterative Poetry and 11s Literary Background, pp. 54–69.
19 Oakden J.P. Op. cit., pp. 32–35.
20 “The Wars of Alexander”. Ed. W.W.Skeat. Introduction. // Early English Text Society, Extra Series, 1887. Vol. 47, p. XVIII.
21 Стеблин-Каменский М.И. Заметки о становлении литературы (к истории художественного вымысла). // Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика, с. 108.
22 Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986, с. 137–138.
23 The Oxford Companion to English Literature. Ed. P.Harvey. Oxford, 1969, p. 561.
24 Branscheld P. Die Quellen des “Morte Arthure”. ft Anglia, Anzeiger, S., 1885, pp. 179–236.
25 Matthews W. The Tragedy of Arthur: A Study of the Alliterative “Morte Arthure”. Berkeley end Los Angeles, 1961.
26 Gardner J. (transl.) The Alliterative “Morte Arthure”. “The Owl and the Nightingale” and Five Other Middle English Poems. Carbondale and Edwardsville, 1971, p. 256.
27 The Alliterative “Morte Arthure”. A Reassessment of the Poem. Ed. K.H.Goller. Cambridge, 1981.
28 Newstead H. Arthurian Legends. // A Manual of the Writings in Middle English. New Haven, Conn., 1967, pp. 44–46.
29 Peck R.A. Willfulness and Wonders: a Boethlan Tragedy in the Alliterative “Morte Arthure”. // The Alliterative Tradition… p. 153–182.
30 Peck R.A. Op. cit., p. 157.
31 Turville-Petre Th. Op. cit., p. 80.
32 О метрических рангах см. Смирницкая О.А. Синонимические системы в «Беовульфе». // Вести. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология, 1980, N9 5, с. 44–57.
33 Markus М. The Language and Style: The Paradox of Heroic Poetry. // The Alliterative “Morte Arthure”. A Reassessment of the Poem, pp. 58–59.
34 Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс. // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 16–22.
35 Markus М. Moderne Erzahlperspektive in den Werken des Cawain-Autors. Nürnberg, Regensburg, 1971, pp. 19–49.
36 Waldron R.A. Op. cit., p. 800–801.
37 Waldron R.A. Op. cit., p. 800.
38 Markus M. The Language and Style…., p. 62.
39 Смирницкая О.А. См. статью в настоящем сборнике.
40 Vinaver Е. From Epic to Romance. // Bulletin of the John Rylands Library, 1963–4. Vol. XLVI, pp. 478–503.
41 Speirs J. Medieval English Poetry: the Non-Chaucerian Tradition. London, 1957, pp. 220–230.
42 Bloomfield M.W. Sir Gawain and The Green Knight: An Appraisal. // Publications of Modem Language Association of America, 1961. Vol. LXXVI, pp. 7–19.
43 Burrow J.A. Essays on Medieval Literature. Oxford, 1984, pp. 117–131.
44 Boroff M. Sir Gawain and Green Knight. New Haven, London, 1962, pp. 126–127.
45 Обращая внимание на совпадение начала поэмы с концом, А.Спиринг проводит аналогии с риторической фигурой expolitio, использованной в описании пятиугольника uche lyne vmbelappez and lokkez in other (628) — «каждая сторона (строка?) соединена и замкнута с другой», который истолковывается им как символ «Божественной вечности». См.: Spearing А.С. Readings In Medieval Poetry, p. 200.
46 Смирницкая О.А. Индоевропейское в германской поэзии. // Эпос Северной Европы. Пути эволюции. М., 1989, с. 7–34.
47 Owen D.D.R. Burlesque Tradition and “Sir Gawain and the Green Knight”. // Forum, 1968. Voi. IV, p. 145.
48 Языковые причины разрушения аллитерационной поэзии исследованы Смирницкой О.А. Лингвистические факторы развития и гибели аллитерационного стиха в Англии. // Вопр. англ, филологии. Тула, 1970, с. 71–89. См. также: Lehman W.P. The Development of Germanic Verse Form. Austin: University of Texas Press and linguistic Society of America, 1956.
49 Применительно к «Видению Уильяма о Петре Пахаре» Ленгленда, вероятно, можно признать справедливость упоминавшейся в работе генетической гипотезы Торлака Тэрвилль-Питера, связывающего аллитерационную поэзию с раннесреднеанглийскими памятниками: Turville-Petre Th. Op. cit., pp. 6–14.
50 Барт Р. Лекция. // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, с. 554.
51 Барт Р. Указ, соч., с. 554.
52 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976, с. 23–44.
53 Фрейденберг О.М. Что такое эсхатология? // Труды по знаковым системам. Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1973, вып. 308, с. 514.
54 Everett D. Essays on Middle English literature. Oxford, 1955, p. 70.
55 Mother Angela Carson. Aspects of Elegy in the Middle English “Pearl”. 11 Studies in Philology. 1965. Vol. LXII, pp. 17–27.
56 См. обзор этих точек зрения: Wellek R. “The Peart”: An Interpretation of the Middle English Poem. // Studies in English. Prague, 1933. Vol. IV, pp. 5–33.
57 Robertson D.W. “The Pearl” as a Symbol. // Modern Language Notes, 1950. Vol. LXV, pp. 155–161.
58 Rpstvig M.-S. Numerical Composition in “Pearl”. // English Studies, 1967, pp. 326–332.
59 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. // Теория Метафоры. М., 1990, с. 25.
60 Арутюнова Н.Д. Указ, соч., с. 25.
61 Røstvig M.-S. Numerical Composition…, р. 330.
62 Gollancz I. Introduction. // Pearl. 2nd edition. London, 1921, pp. XXIV–XXV.
63 Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов. // Древнеанглийская поэзия. М., 1982, с. 185.
64 В «Перечне Размеров» (Háttatal), третьей части «Младшей Эдды», говорится: «красивее, если каждая аллитерация имеет свой особый гласный». (Edda Snorra Sturlusonar (Edda Snorronis Sturlui) Sumptibus legati Arnamagnaeani I, Hafniae, 1848, s. 596).
65 Hulbert J.R. A Hypothesis concerning the Alliterative Revival. // Modem Philology, 1931. Vol. 28, pp. 405–422.
66 Pearsall D. The Alliterative Revival. Origins and Social Backgrounds. // Middle English Alliterative Poetry, p. 47.
67 Doyle A.I. The manuscripts. // Middle English Alliterative Poetry and Its Literary Background, pp. 88–100.
68 Если верна предложенная в работе эволюция поэзии аллитерационного возрождения, то, судя по исследованию диалектов Оакдена (Oakden. Op. cit., pp. 47–102), наиболее стадиально ранние памятники написаны на юго-западно-мидлендских диалектах, «классические» («Троя», «александреида») — на центральных западно-мидлендских диалектах, строфические поэмы с орнаментальной аллитерацией — на северо-восточно-мидлендских диалектах, к концу XV века аллитерационная поэзия перемещается в Шотландию.
Источник: Проблема жанра в литературе средневековья: [cб. ст.] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [отв. ред. А. Д. Михайлов]. — М.: Наследие, 1994. — С. 175–228.
OCR: Stridmann